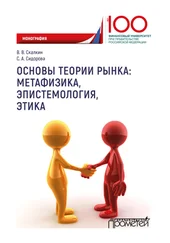Более конкретно на ту же тему он рассуждает в схолии 1 к теореме 37 части IV, где говорится о том, что животные отличаются от человека по своей природе и что для человека полезнее искать союза прежде всего с людьми (речь идет о социальных связях). С одной стороны, мы вправе поступать с животными так же, как и они с нами (очевидно, что речь идет о равенстве прав); с другой – мы имеем больше прав над животными, чем они над нами, поскольку право определяется могуществом и добродетелью каждого, а этим мы превосходим все остальные существа. Отсюда Спиноза делает вывод, который может вызвать в наше время серьезные возражения, но не по части предметной, а только мотивационной. Он допускает такое обращение с животными, которое диктуется практическими интересами человеческого рода, с чем мы и в наши дни на деле можем согласиться. Правда, Спиноза не утверждает, что убийство животных человеком есть зло допустимое, необходимое или меньшее, чем отказ от употребления их в пищу. Его позиция в данном вопросе последовательна и принципиальна: он считает, что лишение животных жизни (разумеется, совершаемое по практической необходимости и без всякого аффекта в человеческом разуме – последнее важнее всего) вовсе не зло, а скорее добродетель человека, поскольку соответствует интересам его собственной природы. Человек может распоряжаться животными по своему произволу (iisdem ad libitum uti); кроме того, по мнению Спинозы, закон, запрещающий убивать животных, основан не на разуме, а «на пустом суеверии и женской сострадательности», хотя он и не отрицает того, что животные способны чувствовать. В этом разделе своего морального учения Спиноза не уступает Декарту, который, как известно, не считал чувственные реакции животных на внешние воздействия хоть в чем-то сходными с аффектами человека.
12«Пассивные состояния относятся к уму лишь постольку, поскольку он имеет что-либо, заключающее в себе отрицание, иными словами, поскольку он рассматривается как часть природы» (III 3 схол.).
13Очевидно сходство в понимании аффектов (affectus) у Спинозы со стоическим представлением о страстях (pathe) как своего рода болезнях души, в определенной мере противоречащих ее подлинной (разумной) природе. Цицерон называл их morbi (болезнями). Стоики определяли страсти как «избыточные» стремления человеческого ума, не подчиняющиеся императивам разума (SVF III 391). Кроме того, стоическая традиция в этике тоже в определенной мере интеллектуализировала страсти и представляла их как «ложные суждения» ума. Возможно, это было вызвано тем, что стоическая психология говорила о единой разумной субстанции души, не допуская наличия в ней каких-либо иррациональных составляющих. То есть речь шла фактически о тождестве ума и души с приоритетом ума. Самое важное, что сближает учение об аффектах у Спинозы со стоической доктриной – это оценка ими морального (ценностного) статуса аффектов (страстей). И в том, и в другом случае «страсти души» наделялись негативными коннотациями. В них видели своего рода дефект разумной природы, препятствующий достижению человеком нравственного совершенства. Стоики даже утверждали необходимость полного преодоления страстей, что, с точки зрения Спинозы, является для человека недостижимым. Аффекты или страсти рассматривались ими как симптомы частной природы отдельного человеческого существа, в своем единичном статусе отступающего от универсальных моделей разумного мирового порядка. В таком контексте исключительность каждой индивидуальности могла звучать для нее как моральный приговор. Подобное представление свойственно в целом классической традиции в этике.
Для контраста можно обратиться к опыту аналитики человеческого бытия в фундаментальной онтологии у Хайдеггера, которого можно считать мыслителем эпохи модерна. В «Бытии и времени» (§ 30) он рассматривает феномен страха (Angst). Стоики видели в страхе (phobos) одну из основных страстей, а Спиноза считал metus (страх) производным от аффекта печали (tristitia) со всеми вытекающими отсюда последствиями (III Определ. аффектов 13). В отличие от них, у Хайдеггера страх представляет собой особое расположение человеческого бытия (Dasein), выполняющее важнейшую функцию конституирования человеческой самости в ее единственности, исключительности и неповторимости. То есть страх обнаруживает в человеке все то, от чего всегда дистанцировалась классическая этика. Именно страх открывает перед человеком подлинность его уникального бытия. В этом смысле частное обладает приоритетом перед всеобщим. Как известно, такого рода переживание человеческой исключительности в позитивном модусе страха описано Л. Н. Толстым в «Смерти Ивана Ильича» (на него ссылается Хайдеггер).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
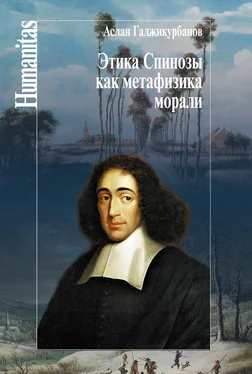
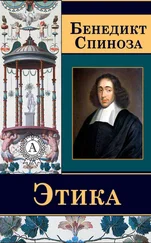


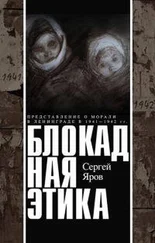




![Ирвин Ялом - Проблема Спинозы [litres]](/books/396345/irvin-yalom-problema-spinozy-litres-thumb.webp)