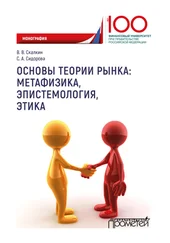Но, оказывается, есть особая форма истинного познания, которая превосходит обычный порядок вещей. Она описана Спинозой в теореме 29 ч. V «Этики», где говорится о том, что ум способен представлять вещи не только во времени, как это характерно для обычного порядка вещей, но и под формой вечности. В королларии к теореме 38 ч. II говорится, что человеческий ум может ясно и отчетливо (адекватно) постигать в вещах то, что является общим для них, а речь идет об атрибутах вещей, представляющих вечную и бесконечную сущность Бога. Таким образом, каждая отдельная вещь несет в себе частицу вечной божественной (атрибутивной) сущности, и именно на ее основе она может быть постигаема в вечности. В уме существует особый модус мышления, составляющий саму природу ума и причастный к вечности. Одновременно этот вечный модус мышления представляет сущность тела под формой вечности (V 23 схол.). Таким образом, оба главных атрибута субстанции – протяжение и мышление, – выражающие природу вещей, непосредственно и необходимым образом присутствуют в каждой отдельной вещи и могут быть постигаемы в акте интуитивного познания. Об этом удивительном даре человеческого ума – возможности непосредственного постижения самой сущности Бога – Спиноза говорит очень простыми словами: «Бесконечная сущность Бога и его вечность всем известны» (II47 схол.).
Что может изменить устоявшийся характер представлений нашего ума, препятствующий нам постигать сущность Бога? Новый аффект, превосходящий по силе обычные аффекты. Он возникает на основании третьего рода познания. Высшая добродетель ума состоит в познании Бога, а такой род познания придает человеческому уму свойственное его природе совершенство и сопровождается радостью — одним из главных и даже приоритетных аффектов ума и тела. Познание Бога под формой вечности определяется Спинозой как интеллектуальная любовь к Богу (amor Dei intellectualis). Интеллектуальная форма такого рода познания не лишает его аффективной природы – аффект радости от адекватного познания Бога сопровождается идеей о Боге как его причине. То есть познание Бога все равно остается для человека действием пассивным и несвободным, поскольку сам человек не может стать для самого себя причиной этой любви (Amor), радости (Leetitia) или блаженства (Beatitude), а во всем этом зависит от Бога как от своей причины. Не случайно Спиноза замечает, что такая любовь человека к Богу называется в Священных книгах славой, и в действительности не отличается от любви к славе, т. е. гордости (Gloria) (V 36 схол.). Это означает, что для человеческого ума его любовь к Богу представляет собой только часть той любви, которой Бог любит самого себя. В этом случае, как и во всех иных, за человеческим умом все равно сохраняется его частная, модальная природа, пусть даже под формой вечности 17.
Примечания
1Идея, близкая стоическому пониманию природы аффектов (страстей, pathe). См.: Brabander F. De. Spinoza and the Stoics. Power, Politics and the Passions. L.; N. Y., Continuum, 2007. P. 17–22.
2Между тем в лексиконе Спинозы глагол agere и его производные далеко не всегда обозначают активную форму человеческого бытия в смысле способности нашей природы быть адекватной причиной своих действий. Часто названные термины употребляются в таких контекстах, где выражают действия, которые не обладают однозначной суверенностью и не сопровождаются исключительно адекватными (ясными и отчетливыми) идеями. Особенно ярко терминологическая неоднозначность понятия actio проявляется в теореме 59 ч. IV, где говорится: «Ко всем действиям (actiones), к которым мы определяемся каким-либо аффектом, составляющим состояние пассивное, независимо от него мы можем определяться также и разумом». Здесь слово «действия» звучит как «actiones», но разве можно, с точки зрения самого Спинозы, называть actio действием, к которому мы определяемся каким-либо аффектом? Кроме того, в теореме 7 ч. III он связывает agere со стремлением вещи (в данном случае человеческого ума) к сохранению своего бытия, а это стремление, как известно, характеризует эмпирический статус существования, где каждая вещь обладает временной длительностью (duratio) и подвержена различного рода внешним воздействиям. Очевидно, что agere и actio у Спинозы зачастую выражают простое действие и синонимичны многим другим понятиям, обозначающим разного рода активность вещей, или их способность действовать. Например: essentia… existit et operatur (IV Предисловие); res, quae ad aliquid operan-dum determinata est (I 26); res, quae a Deo ad aliquid operandum determinata est (I 27).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
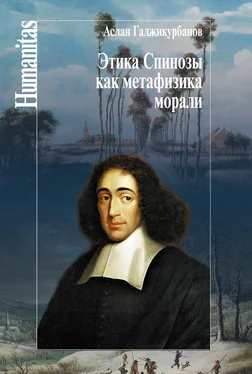
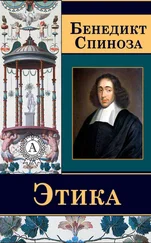


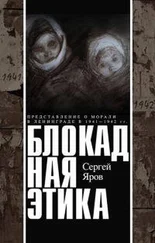




![Ирвин Ялом - Проблема Спинозы [litres]](/books/396345/irvin-yalom-problema-spinozy-litres-thumb.webp)