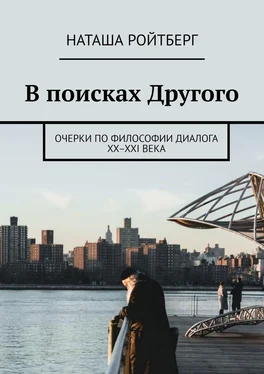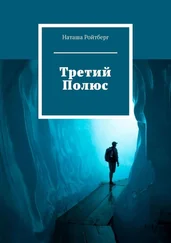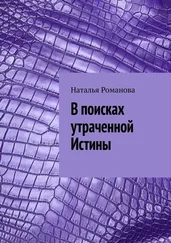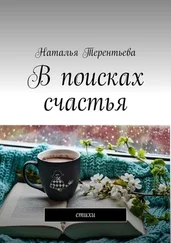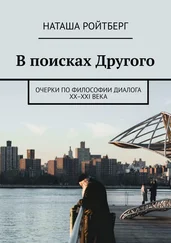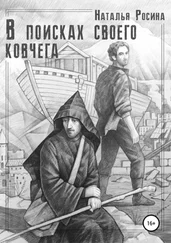Все творчество Бубера можно разделить на три составляющих: толкование хасидских преданий; учение о Я-Ты-отношении; перевод и толкование Писания.
Вероятно, именно обращение Бубера к инонаучной — религиозной сфере — в виде хасидских преданий обусловило специфику развития всего буберовского мышления.
По мнению Т. Г. Лифинцевой, мистику хасидов можно рассматривать как источник «диалогической теологии» М. Бубера, поскольку сущность истинного диалога всегда религиозна [88]. Творческое наследие автора «Я и ты» пронизано религиозностью как альтернативой религии, — начиная с его диссертации «К истории проблемы индивидуальности», где дилемма диалектики единства и множества разрешается посредством принятия универсальной имманентности Б-га, и, завершая одними из последних его работ — «Царство Б-жие», «Два разговора» и др. По замечанию Л. Шестова, все сочинения Бубера «являются в последнем счете только комментариями и истолкованиями» Торы [34, с. 542]. Примечательно, что программное произведение Бубера «Я и ты» имело первоначальное название «Религия как современность». Исходной установкой буберовского диалогизма является взаимообращенность человека и Б-га, «я» и «Ты». И если в переводе Писания и хасидских преданиях эта установка овеяна мистицизмом и не лишена фантастического начала, то в основных работах Бубера хасидизм и Тора присутствуют незримо, подтверждая возможность «быть убежденным хасидом, не обрекая себя на sacrificium intellectus» [там же, с. 544]. В религиозном аспекте взаимоотношения единичного и Единого неминуемо наделяются личностным характером и осуществляются как живой опыт.
Место субъекта и объекта, характерных для философии, в религии занимают «я» и «ты»; место абстракции — жизненная конкретность. Только в ней, только из нее, по Буберу, может быть постигнуто благо. Личностное, реальное взаимоотношение, любовь, — необходимые условия «общения» с Б-гом как единством трансцендентного и имманентного (в противном случае Б-г трансформируется в представление о Нем, становится идеей о Б-ге, но «Б-г как идея — это не Б-г» [там же, с. 204]).
Данные положения созвучны поздней (лурианской) Каббале и хасидским представлениям о Б-ге и характере Его взаимоотношений с человеком.
Как и неоплатоники, каббалисты считали Верховное Б-жество непостижимым, раскрыть суть которого можно только через «устранение всех его осознаваемых атрибутов в определенном порядке», т. е. преобразовав его в Эн Соф — «бесконечность, беспредельность, вечное состояние бытия» [см. подробнее: 88]. Это предполагает органическое единство всего наполняющего мир и, в свою очередь, всеобщего взаимоотношения всего со всем, его органической связи.
Очевидна экстраполяция положений хасидизма на диалогизм Бубера: книга «Я и Ты» в определенном смысле является философской интерпретацией хасидской идеи об органическом единстве. Для раннего Бубера, отмечает В. Махлин, характерна монологически-экстатическая религиозность с налетом мистицизма, период «экстатики», который впоследствии преобразится в религиозный экзистенциализм и «диалогическую теологию», «диалогику» [89, с. 17]. Хасидизм важен для Бубера как демократизация практического учения Каббалы, как осуществление психологической реформы и возможное преодоление кризиса современного мира вообще, мира отчуждения, как альтернатива рационалистической европейской культуре и яркий пример экстатической мудрости. Бубер предпринял «сильное прочтение хасидизма» (Рорти), т.е. подошел к текстам с позиции своих насущных целей и задач — не как объективный исследователь и историк, а как «просвещающий философ»: игнорируя теологические трактаты хасидов и их теоретические работы (например, «Библейские комментарии»), он рассматривает и использует исключительно сказки и легенды.
Подобно тому, как хасидизм явился противостоянием официальному раввинизму в качестве религиозно-мистического течения иудаизма, течения обновления и более живого исполнения Закона, так и «философия диалога», в частности, диалогика Бубера, стала противостоянием предшествующей монологической философии. И если главная цель хасидизма — «тиккун», воссоединение искр божественного света, то цель «философии диалога» — восстановление истинной коммуникации, преодоление отчуждения посредством я-ты-связи. В контексте созданной Бубером «диалогической теологии» вполне объяснимо парадоксальное определение Г. Померанца — Бубер был «иудеем среди христиан и еретиком среди иудеев» [91].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу