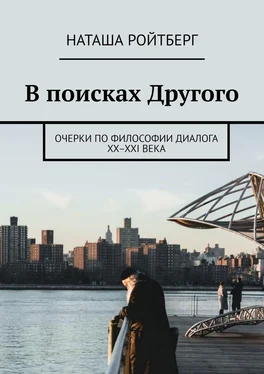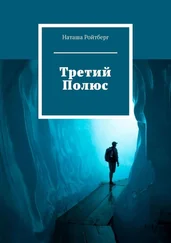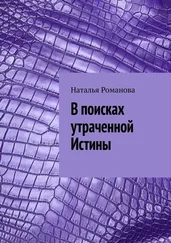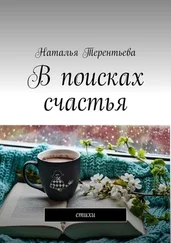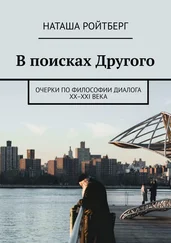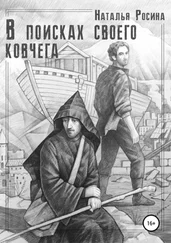Более того, под угрозой оказывается то, что составляет содержание таких категорий, как история, язык, Б-г.
Вот почему диалогисты вплотную подходят к проблемам времени, общения, веры, максимально размыкая эти категории. Философия диалога рассматривает не сугубо историческое время, а метаисторию; общение не просто как коммуникацию, но как бытие-общение; не пассивное верование, но веру как активную, ежесекундную ответственность за каждого другого перед лицом вечного Другого — Всевышнего. Вот почему к философии диалога примыкает в наибольшей мере философия теологическая (Фридрих Гогартен, Карл Гайм, Эмиль Бруннер, Карл Барт) или экзистенциально ориентированная (Теодор Литт, Карл Левит, Эбер Гризебах, Карл Ясперс) [см. подробнее об этом: 84]. Можно сказать, что диалогизм трансформирует посылки субъекта и отношение субъект-объект из схематичных, теоретизированных, умозрительных в живые, действенные, актуальные. В какой-то степени диалогика утверждает компромиссную позицию между философским антропологизмом (например, Л. Фейербаха) и сугубо религиозно окрашенным диалогизмом (к примеру, С. Кьеркегора). Философское учение каждого из представителей диалогики опирается так или иначе на религиозный аспект, но создает при этом не умозрительную и отвлеченную теологию, а теологию экзистенциального характера.
Наиболее ярко, на наш взгляд, эта особенность проявляется у еврейских представителей диалогики.
Как отмечено нами выше, в начале ХХ в. одновременно, независимо друг от друга, М. Бубер, Ф. Розенцвейг, О. Розеншток-Хюсси и Ф. Эбнер приходят к созданию «нового мышления» — мышления диалогического. Философия диалога зарождалась буквально в окопах на линии фронта Первой мировой войны. Отсюда такие качества еврейской диалогической мысли, как крайне обостренное чувство экзистенции — переживание каждого момента, «здесь и сейчас»; категорический «императив ответственности» за все происходящее в мире, за каждого другого человека; привилегия и вместе с тем страшная обязанность видеть в каждом человеке другого именно как Другого, а в высшем смысле — видеть через другого человека абсолютное Иное, т. е. Б-га: «Тот, кто произносит слово „Б-г“, и помыслы его действительно связаны с Ты, он обращается к истинному Ты своей жизни, которое не ограничить никаким другим и в отношении к которому, включающему все другие, он пребывает» [34, c. 77].
Философия диалога инспирирована религиозным и этическим аспектами. Истинно диалогическое мировосприятие должно основываться на определенных факторах формирования представления о мире.
Не случайно именно еврейским мыслителям удается создать и обосновать диалогизм как практически единственное средство спасения современного человечества: «Либо мы найдем общий язык, либо мы найдем общую погибель» [85, c.13].
Еврейская философия диалога — это ответ миру войны, миру господства Оно, миру Тотального. Это ответ, окупленный ценой ответственности: «Невозможность отменить ответственность за другого. Она [есть] невозможность более невозможная, чем невозможность вылезти из собственной кожи», — утверждает Эммануэль Левинас [43, с.595]. Более того, единственно на этой ответственности и может держаться весь мир: «Исходя из ответственности <���…> более древней, чем начало и первоначало <���…> приведенное к себе и ответственное за Других „я“ <���…> — это „я“ — мое Я — держит на себе универсум, „полный всего“» [там же, с. 644]. Эта философия интересна тем, что имела не только внешний, продиктованный общим развитием научной мысли импульс к «анти-Логосному» мышлению, но и была внутренне причастна и близка тому восприятию мира, которое отвергает всевластие Логоса, признает необходимым ставить предел приоритету ratio и опровергать незыблемость декартовского cogito ergo sum.
Не случайно диалогизм получил наиболее глубокое и широкое выражение именно у еврейских мыслителей. К какому бы еврейскому философу-диалогисту мы ни обратились, в его работах будет очевидной аннигиляция Логоса: как «Тотальности» (Э. Левинас), как сферы бездушного опыта и засилья «Оно» (М. Бубер), как «атеистической теологии» (Ф. Розенцвейг), как «обладания» в противовес «бытию» (Г. Марсель).
Что же выдвигается в качестве альтернативы Логосу?
Голос.
Среди философов, достаточно глубоко затронувших эту проблему, — Ж. Деррида («Голос и явление», «Голос и феномен: введение в проблему знаков в феноменологии Гуссерля»). Деррида противопоставляет Логосу голос и фонетическое письмо как «привилегию присутствия сознания» («сознание обязано своим привилегированным статусом возможности живого голосового посредника»). Он рассматривает проблему голоса как проблему привилегии голоса по отношению ко всей истории Запада и истории метафизики: «> … … <���Феноменологический голос и был этой духовной плотью, что продолжает говорить и быть для себя настоящей> … <���в отсутствии мира. Идеальность объекта, которая является лишь его бытием для неэмпирического сознания, может иметь выражение только в таком элементе, чья феноменальность не имеет мирской формы. Имя этого элемента — голос. Голос слышим» [46, c. 253].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу