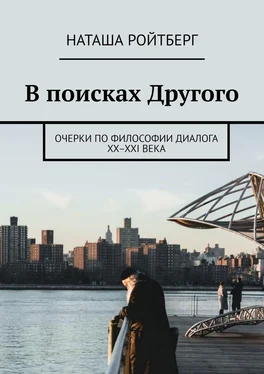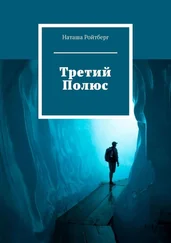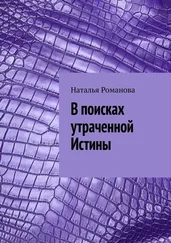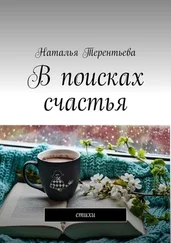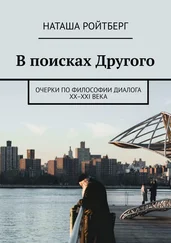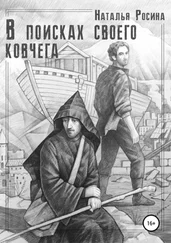По Библеру, логика должна стать «диалогикой». Он рассматривает становление логики мысленного диалога, начиная с «ученого незнания» Николая Кузанского через «беседы» и «майевтический эксперимент» Галилея, отступление Гегеля перед необходимостью выходить из теории в диалогику («Феноменология духа») к «философии будущего» Людвига Фейербаха, в которой истинной диалектикой признается не монолог одинокого мыслителя с самим собою, а «диалог между Я и Ты» [см. подробнее: 73]. Об имманентности диалогических идей духовной атмосфере современности свидетельствует их широкий резонанс в гуманитарном научном пространстве: «Происходит большой антропологический переворот, растет тяга к новой антропологии, холистической и диалогической, к новому образу человека. В секулярной философии заметный знак этого движения — интенсивный интерес к диалогической мысли (круг Бахтина, круг Бубера)» [70, с. 26].
Несмотря на постоянное стремление философии к монистическим системам (например, холизм), при создании философских систем постоянно проявляется тенденция к диалогичности (например, дуализм). Особая актуальность проблематики диалога в гуманитарных науках может быть объяснена влиянием литературоведения и герменевтики: по словам Г.-Г. Гадамера, «в истории философского мышления феномен разговора в особенности выдающаяся форма его, разговор с глазу на глаз, именуемый диалогом, сыграл свою определенную роль в качестве всеобщего культурного феномена. Прежде всего, эпоха романтизма, а затем ее повторение в XX веке отвели феномену разговора критическую роль, противопоставив его роковой монологизации философского мышления» [74, с. 5].
Диалогическая философия вызвала широкий резонанс в работах как зарубежных, так и отечественных мыслителей, не принадлежащих непосредственно направлению «философии Другого». Так, необходимость «коммуникативного существования» и стратегия «воскрешения субъекта» в западной философии нашли свое выражение в «любящем бытии-друг-с-другом» терапевтической антропологии Л. Бинсвангера; в преодолении экзистенциализма и восстановлении «несущей оболочки для реальности вне человека» посредством «новой укрытости» как «данности Ты» у О. Ф. Больнова; в «со-бытии с Другим» у Ж.-П. Сартра; в «кайросе» как акте воплощения Слова Б-жьего, восстановившего «единство сущности и существования» у П. Тиллиха; в «бытии-с» у М. Хайдеггера; «интерсубъективной экзистенции» Г. Марселя и т. д.
В отечественной философии эта традиция представлена в сопоставлении «Я» (как трансцендирование себя и выход к «другому») и «мира объектов» у Н. А. Бердяева; отношении «я-ты» как «единства раздельности и взаимопроникновения» у С. Л. Франка; обосновании основных универсалий «культуры глубинного общения» у Г. С. Батищева; описании отношения Я и Ты как «ноуменального отношения» у Я. С. Друскина; попытке разрешения проблемы общения в «постсекулярной философии» и феномене «уязвимости любви» у В. А. Малахова [см.: 75—81; 92]. Кроме того, нельзя не упомянуть тех зарубежных исследований, которые появились как критика и попытка осмысления творческого наследия мыслителей-диалогистов: работы А. Л. Бёма; Ю. Кристевой, Дж. Морсон и К. Эмерсон, К. Томсона и многих других [см.: 25; 82; 120]. «Диалогизм» чрезвычайно актуален сегодня, потому что в его компетенции ответить на те вопросы, которые стоят перед современным гуманитарным сознанием и культурой в целом. По П. Рикеру, эти вопросы сводятся к следующим: «Кто говорит?», «Кто действует?», «Кто рассказывает?» и «Кто является моральным субъектом обвинения?» [83, с. 25]. По нашему убеждению, последний вопрос является наиболее важным, задающим тон всей философии диалога в целом, поскольку актуализирует такие этические проблемы как ответственность и долг.
Нельзя не отметить значения идей диалога для современной теологии: Б-г раскрывается как абсолютное «Ты», а сама религия рождается не только в движении личности к абсолюту, но и в движении самого Б-га к человеку. Так, например, по мнению митрополита Антония, центральной темой богословия является встреча — встреча с Б-гом, который настигает человека даже тогда, когда человек его не ждет: «О Б-ге ничего нельзя сказать на словах, Его бытие нельзя доказать, но Его можно встретить — и в этом величайшее чудо христианства». Это — первый род встречи. Антоний выделяет еще два рода: встреча человека с самим собою и встреча человека с человеком. Несомненно, все эти встречи связаны: «только исходя, „выходя“ из себя человек способен воспринять другого как принципиально другого, а другой в абсолютном смысле, как вечное „Ты“ это и есть Б-г» [87, с. 182—184].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу