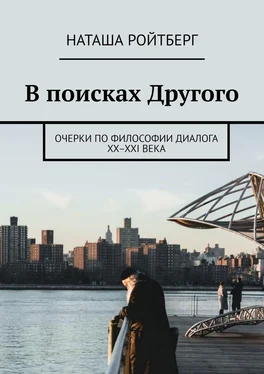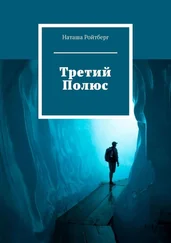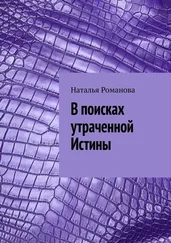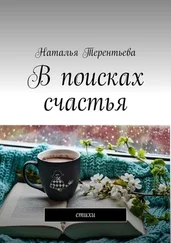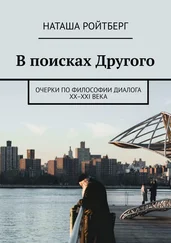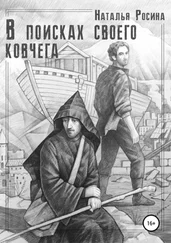Бубер отмечал: «Я должен еще раз повторить: у меня нет учения. Я только указываю на нечто. Я указываю на реальность. Я указываю на то в этой реальности, что до сих пор не было замечено или было замечено очень мало. Я беру за руку того, кто слушает или читает меня, и веду его к окну. Я открываю окно и показываю ему то, что за этим окном. Я говорю тем, кто слушает меня: это ваш опыт. Пересмотрите его, а то, что вы можете пересмотреть, рассматривайте опять как опыт» [цит. по: 90]. Становление диалогики Бубера приходится на рубеж XIX — XX вв. — время кризиса классической рациональности, «кризиса человека» и утверждения приоритета самой действительности и жизни как обоснования единства мира.
Одну из своих задач философ видит в обосновании «философской антропологии», необходимость которой обусловлена, помимо прочего, «космической бездомностью» и «отчуждением»: «Антропологический вопрос обостряется в эпохи беззащитности, бездомности, когда человек чувствует, что он в этом мире пришелец и одиночка <���…> после открытия бесконечной Вселенной построение нового мирового дома становится уже невозможным. Более того, становится невозможным и построение нового образа мира. Человек оказался перед лицом новой страшной реальности, когда даже творения рук человеческих предстают перед ним независимыми от него и порой враждебными ему» [см.: 91].
Отметим ключевые моменты философских положений тех философов, без которых становление диалогики Бубера было бы невозможно (В. Дильтей, И. Кант, С. Кьеркегор, М. Хайдеггер, Л. Фейербах).
Непосредственное влияние на философию Бубера оказал один из крупнейших представителей «философии жизни» — В. Дильтей. «Вечно обновляющуюся тотальность становящейся жизни, раскрывающейся для меня изнутри моего же становления» [89, с. 9] Дильтей представляет как переживание. Бубер, в отличие от Дильтея, ставит вопрос о продуктивности этого переживания и его активном характере: оно открывает, конституирует мир вне меня, и этот мир, эта действительность зависит от активного отношения к ней. Активное отношение к действительности требует выбора и действия — Бубер ставит, таким образом, проблему поступка и оправдания моего выбора себя.
В. Махлин считает, что буберовский поворот от «экстатики» к «диалогике» опирается на философию И. Канта, а именно — на объективный опыт, запрет на «вещь в себе» [там же, с. 59]. Тематизируя опыт, Бубер совершает тематизацию, т.е. «другость» Другого. Если теоретически эта «другость» может быть элиминирована, то в опыте перед нами всегда предстоит «Другой в себе». Так становится возможной децентрация гносеологического субъекта. С другой стороны, Бубер подвергает критическому переосмыслению кантовскую «вещь в себе», не замыкая восприятие вещи и представление о вещи в рамках опыта, но простирая их в пространство отношения и встречи, т.е. общения. Вещь как объект опыта — это пресловутое буберовское «оно», вещь как соучастник диалога — это уже «Ты».
Л. Фейербаха Бубер критикует за недостаточную разработанность диалектики Я-Ты и узость фейербаховского антропологического подхода, согласно которому человек предстает как «беспроблемный». Очевидно также некоторое расхождение Бубера с экзистенциализмом и с «философией жизни».
Философ признавал: «Поскольку те, с кем меня любят сравнивать (Кьеркегор, Хайдеггер), поставили само человеческое существование в центр рационалистических построений, то меня можно назвать экзистенциалистом. Но только обычно забывают об одной вещи: все, что угодно можно обсуждать и определять спекулятивно, но только не человеческое существование. Истинный экзистенциалист сам должен «существовать». Экзистенциализм, который воплощает себя в теорию, — есть противоречие. «Существование» не есть философская тема среди других тем» [цит. по: 90]. Г. Вер считает, что Буберу удалось создать «нечто единое из атеистической позиции Л. Фейербаха, признававшей связи человека с человеком сущностными, родовыми, и — религиозной позиции С. Кьеркегора, признававшей сущностным лишь отношение «единичного индивида» к Абсолюту: «Он (Бубер) разрешил альтернативу тем, что создал некий синтез, синтез из внешне религиозной позиции Кьеркегора и внешне атеистической позиции Фейербаха. В этом, без сомнения, заключается большая философская заслуга Бубера» [см.: 91].
Весьма любопытным в этом контексте представляется высказывание Бубера, подтверждающее его признание вклада Фейербаха в развитие проблемы соотношения субъект-объект, по сравнению, например, с трактовкой этого соотношения у Маркса: «Видя в человеке высший предмет философии, Фейербах понимает его не как человеческую индивидуальность, а как связь человека с человеком, связь между Я и Ты <���…> Маркс же исключил из своего социального учения элемент реального отношения между реально различными Я и Ты и именно по этой причине все время противопоставлял безжизненному идеализму равно далекий от жизни чистый коллективизм. Фейербах, взяв в этом смысле „выше“ Маркса, положил начало тому открытию „Ты“, которое называют „коперниковским свершением“ современной мысли» [93, с. 421].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу