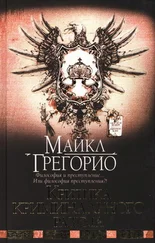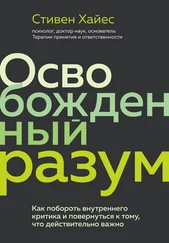Критика цинического разума оставалась бы академической игрой в бисер, если бы она не прослеживала связи между проблемой выживания и опасностью фашизма. На деле вопрос «выживания», самосохранения и самоутверждения, на который предлагает свой ответ всякий цинизм, напрямую связан с ключевой проблемой — проблемой сохранения настоящего и планирования будущего в современных национальных государствах. Используя различные подходы, я пытаюсь определить логическое место немецкого фашизма в лабиринтах и закоулках современного рефлексивного цинизма. По этой причине позволительно сказать, забегая вперед, что в нем происходит соединение типичных для современности динамических процессов роста психокультурного страха перед распадом и разложением, регрессивного самоутверждения и связанной с новым состоянием вещей холодности разума — с солдатским цинизмом, который имеет столь же жуткие, сколь и прочные традиции на немецкой, а в особенности на прусской почве.
Возможно, эти размышления по поводу цинизма как четвертого члена в ряду форм ложного сознания помогут преодолеть странное молчание чисто философской критики по поводу так называемой фашистской идеологии. В связи с «теоретическим фашизмом» профессиональная философия не выдвигает никаких собственных тезисов, потому что ее основное представление таково: фашизм ниже всякой критики. Объяснение фашизма как нигилизма (помрачения сознания и т. п.) или как продукта «тоталитарного мышления» остается чересчур широким и расплывчатым. Ведь уже достаточно отмечался «несобственный», лоскутный характер фашистской идеологии, а все то, что она намеревалась «отстаивать» в содержательных тезисах, уже давно подвергнуто радикальной критике со стороны частных наук — психологии, политологии, социологии, историографии. Программные положения фашизма «даже не представляются» философии субстанциональной идеологией, которую стоит принимать всерьез, такой идеологией, над которой действительно следует поработать рефлексирующей критике. Но здесь-то и обнаруживается уязвимое место — уязвимое место критики. Она сосредоточила свое внимание на «серьезных противниках» и, следуя такой установке, устранилась от решения задачи рассматривать идеологические образцы «несерьезных», «легкомысленных и поверхностных» систем. Поэтому критика по сей день оказывается не на должном уровне, демонстрируя неспособность к рассмотрению современной смеси образа мыслей и цинизма. Но поскольку вопросы социального и индивидуального самосохранения дискутируются именно в виде таких смесей, существуют веские основания для того, чтобы позаботиться об их изготовлении. Вопросы самосохранения следует обсуждать на том же языке, на котором обсуждаются вопросы самоуничтожения. Как представляется, здесь действует та же самая логика опровержения морали. Я называю ее логикой «цинической структуры», то есть логикой самоопровержения высококультурной этики. Ее прояснение позволит лучше понять, что значит — выбирать жизнь.
2. Просвещение как диалог:
критика идеологий как продолжение
неудавшегося диалога
другими средствами
Тот, кто заводит речь о цинизме, напоминает о границах Просвещения. В этом отношении изучение ярких проявлений цинизма в Веймарской республике — даже независимо от того, что здесь он предстает в наиболее явной форме,— весьма перспективно для философии истории. Веймарская республика выступает в немецкой истории не только как продукт задержанного национально-государственного, развития, вызванного тяжким бременем наследия Вильгельма и духа цинически-антилиберального государства, но и как образец «неудавшегося Просвещения».
Часто все изображают так, будто поборники Просвещения в республике к тому времени не могли представлять собой что-то иное, кроме как отчаявшееся меньшинство, которое противостояло почти неодолимым силам, и объясняют, почему это произошло, перечисляя эти силы: массовые течения, направленные против Просвещения и питающие ненависть к интеллекту; целая фаланга антидемократических и авторитарных идеологий, которые сумели организоваться и эффективно влиять на общество через публицистику; агрессивный национализм с реваншистскими чертами; не поддающаяся Просвещению мешанина твердолобого консерватизма, запущенного филистерства, мелких мессианских религий, апокалиптических политических направлений, а также отказов выполнять требования неуютной современности — как реалистических, так и психопатических. Нарастающий кризис снова и снова заносил инфекцию в раны, оставленные мировой войной; продолжало бурно разрастаться увлечение ницшеанством — как наиболее четко выраженным стилем мышления раздосадованных немцев, склонных к нарциссизму, и соответствовавшим их предельно эмоциональному, «протестантскому» отношению к «скверной реальности». В атмосфере лихорадки кризиса начались постоянные и всеобщие психополитические колебания между страхом перед будущим и отвращением ко всему, основанном на чувстве собственной неполноценности, между шаткими псевдореализмами и меняющимися состояниями души. Если есть эпоха, которая требует применения исторической
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу