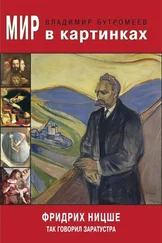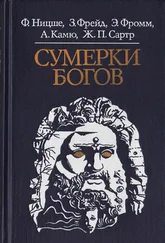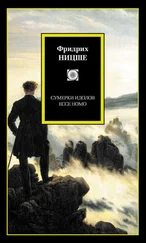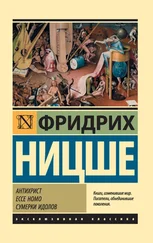2
Я с глубоким почтением оставляю в стороне от этого разговора имя Гераклита . Если прочая философская публика отвергала свидетельство чувств, потому что последние указывали на множественность и изменения, то он отвергал их свидетельство потому, что они показывали, будто вещи обладают длительностью и единством. Гераклит тоже был несправедлив к чувствам. Они лгут не так, как полагали элеаты, но и не так, как полагал он, — они вообще не лгут. Лишь то, что мы сами делаем из их свидетельства, вкладывает в них ложь, — к примеру, ложь единства, ложь вещности, субстанции, длительности... {33} 33 В черновике после этих слов зачёркнуто: «Сегодня мы мыслим об этом совершенно как последователи Гераклита».
«Разум» — причина того, что мы искажаем свидетельство чувств. Поскольку чувства показывают нам становление, минование, перемену, они не лгут... Но Гераклит останется вечно правым в том, что бытие есть пустая фикция. «Кажущийся» мир и есть единственный: «истинный мир» только прилган к нему ...
3
— А сколь тонкими орудиями наблюдения снабжены наши чувства! К примеру, этот нос, о котором ещё ни один философ не говорил с почтением и благодарностью, является между прочим деликатнейшим из всех находящихся в нашем распоряжении инструментов: он способен констатировать самые минимальные разности движения, которых не констатирует даже спектроскоп. Мы владеем нынче наукой ровно постольку, поскольку мы решились принимать свидетельство чувств и поскольку научились ещё и изощрять их, вооружать, додумывать до конца. Остальное — недоноски и ещё-не-наука: имею в виду метафизику, теологию, психологию, теорию познания. Или же формальная наука, учение о знаках: как то логика и прикладная логика, математика. В них действительности нет и в помине, даже как проблемы; так же как и вопроса, какую ценность имеет вообще такая конвенция о знаках, как логика.
4
Другая идиосинкразия философов не менее опасна: она состоит в смешивании последнего и первого. Они ставят в начале как таковом то, что появляется в конце, — к сожалению! Ибо оно не должно бы появляться вовсе! — «высшие понятия», т. е. самые общие, самые пустопорожние понятия, последний дым испаряющейся реальности. Это опять-таки только выражение их манеры поклоняться: высшее не должно произрастать из низшего, не должно вообще произрастать... Мораль: всё, что первого ранга, должно быть causa sui [14] собственной причиной ( лат. ).
. Происхождение из чего-нибудь другого считается возражением, сомнением в ценности. Все высшие ценности суть первого ранга, все высшие понятия: сущее. Безусловное, доброе, истинное, совершенное — всё это не может произойти, следовательно, должно быть causa sui. Но всё это не может быть также неравным одно другому, не может находиться в противоречии с собою... Вот у них и получилось их удивительное понятие «Бог»... Последнее, самое разреженное, самое пустое предполагается как первое, как причина сама по себе, как ens realissimum [15] всереальнейшее существо ( лат. ).
... Чтобы человечество вынуждено было серьёзно относиться к мозговым страданиям больных пауков-ткачей! — И оно дорого заплатило за это!...
5
— Противопоставим же наконец этому то, насколько иначе смотрим мы (— я говорю из учтивости мы...) на проблему заблуждения и кажимости. Некогда считали изменение, смену, вообще становление доказательством кажимости, признаком того, что должно быть нечто вводящее нас в заблуждение. Нынче, напротив, мы видим себя — ровно в той мере, в какой предрассудок разума принуждает нас применять понятия единства, идентичности, постоянства, субстанции, причины, вещности, бытия, — некоторым образом впутанными в заблуждение, приневоленными к заблуждению; как бы ни были мы на основании строгой самопроверки уверены в том, что тут заблуждение. С этим обстоит так же, как с движением небесного тела: там заблуждение имеет постоянным адвокатом наш глаз, здесь — наш язык. Язык по своему происхождению относится ко временам рудиментарнейшей формы психологии: мы впадаем в грубый фетишизм, когда доводим до нашего сознания основные предпосылки метафизики языка, по-немецки: разума . Сознание видит всюду делателя и делание: оно верит в волю как причину вообще; оно верит в «Я» , в Я как бытие, в Я как субстанцию и проецирует веру в субстанцию- Я на все вещи — оно только этим создаёт понятие «вещь»... Бытие всюду вмысливается, подсовывается в качестве причины; и только из концепции «Я» вытекает, как производное, понятие «бытия»... В начале стоит великое роковое заблуждение, что воля есть нечто действующее — что воля есть способность ... Нынче мы знаем, что она — только слово... Гораздо позже, в тысячу раз более просвещённом мире в сознание философов, как озарение, проникла уверенность , субъективная достоверность в применении категорий разума: они пришли к заключению, что последние не могут вести своё происхождение из эмпирии — ведь вся эмпирия находится в противоречии с ними. Откуда же ведут они своё происхождение? — В Индии, как и в Греции, сделали одинаковый промах: «мы должны были уже некогда жить в высшем мире (вместо того, чтобы сказать — в гораздо более низшем: что было бы истиной!), мы, должно быть, были божественными, ведь у нас есть разум»!.. На деле ничто до сих пор не имело более наивной силы убеждения, нежели заблуждение о бытии, как оно сформулировано, к примеру, элеатами: ведь за него говорит каждое слово, каждое изрекаемое нами предложение! — Также и противники элеатов подчинялись обольщению их понятием бытия: в числе других и Демокрит, когда он придумал свой атом ... «Разум» в языке — ох, что это за старая лживая бабёнка! Я боюсь, что мы не избавимся от Бога потому, что ещё верим в грамматику...
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Фридрих Ницше - Песни Заратустры [сборник]](/books/28216/fridrih-nicshe-pesni-zaratustry-sbornik-thumb.webp)