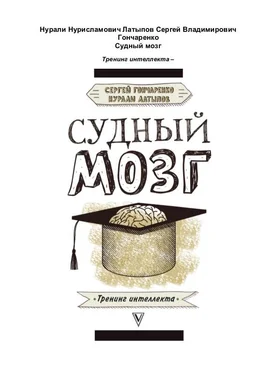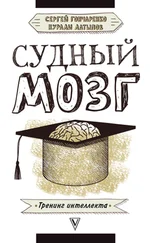– Почему говорят «подъём ноги»? – спросил пытливый ребёнок у Джанни Родари.
Тот почесал затылок и признался:
– Сегодня я не сумею тебе этого объяснить, сначала спрошу у языковедов. Впрочем, таких странных образов пруд пруди: мы говорим «ножка стола», «спичечная головка», «хвост поезда». Тебе когда-нибудь доводилось видеть, как поезд виляет хвостом от радости, что скоро конечная остановка? (Родари, 1987. С. 94)
«… Ну, а это что такое, Непонятное, чудное, С десятью ногами, С десятью рогами?» «Это Бяка-Закаляка кусачая, Я сама из головы её выдумала». «Что ж ты бросила тетрадь, Перестала рисовать?» «Я её боюсь!»
Дали Мурочке тетрадь, стала Мура рисовать. Вот и Кэрролл, кто не помнит, придумал Невообразимого, а потом спрашивал у детей, как же он до такого додумался и что же это за «Бяка-Закаляка».
«… Я напомню сейчас по порядку все пять Самых главных и верных примет, По которым легко может каждый сказать, Есть поблизости Снарк или нет. Свойство первое – вкус; он не слишком хорош: Хоть и тонок, зато ограничен; Словно пара отличных, но тесных галош — А в оттенках совсем необычен. Во-вторых, он не скор в пониманье острот, И вздыхает в отчаянье хмуром, Если кто-то рискнёт рассказать анекдот Или, скажем, блеснёт каламбуром. Признак третий: привычка так поздно вставать (Это просто привычка, не лень), Что садится он завтракать вечером, в пять, А обедать – на завтрашний день. И такая примета – для купанья кареты Он их всюду таскает и даже Почему-то считает, что эти предметы Украшают любые пейзажи. Признак пятый – зазнайство и вера в успех. Подчеркну: надлежит отличать Тех из них, кто пернат и клюётся, – от тех, Кто усат и умеет рычать».
(Льюис Кэрролл, «Охота на Снарка», пер. М. Пухова)
Гениальные трудности
В нашей книге не раз упоминается о парадоксах, как катализаторах новаторской мысли. Тем читателям, у кого подрастают дети, наверняка ещё предстоит хлебнуть последствий гениальной детской «парадоксальности»:
– Папа, существует ли самое большое число?
– Да, существует? – папа пытается отделаться от навязчивого почемучки.
– А что будет, если к нему прибавить единицу?
Очевидно, что ответ неудовлетворителен. Отец в затруднении.
– Нет, Не существует. Так как натуральный ряд стремится к бесконечности! – папа пытается продемонстрировать образованность.
– А можно это несуществующее число, ну, эту бесконечность, обозначить?
– Да, можно.
– А если отнять от этого не существующего числа единицу, мы получим существующее число?
– Нет!
– А если отнять от этого не существующего числа две единицы, мы получим существующее число?
– Нет!
– А если отнять от этого не существующего числа бесконечность натуральных чисел, мы получим существующее число? Ведь это бесконечности одинакового порядка!
– Э… Да! Получим.
– Тогда где, на каком числе несуществующее число превращается в существующее?
Часть 7 Особенности развития
Дух и корысть
Мы уже знаем, что мозг никогда не отдыхает, он в работе постоянно, в том числе и в контексте исторических эпох, в течение которых он был активным «пассажиром» человека, пытаясь вывести его «в люди» в биологическом, интеллектуальном и духовном смыслах. Насколько же «царь зверей» оторвался от других спутников по эволюции? Что обрел нового, что оставил в качестве базы-константы? Биолог и этолог, автор книги «Стой, кто ведет…» Дмитрий Жуков видит эту базу во многом общей с нашими четвероногими друзьями.
«Когда кот о вас трется, не надо это объяснять его любовью к вам – просто ему что-то от вас нужно!».
Между котом и человеком в этом смысле разницы нет, и мотивы человека – такие же, как и у другого зверя. Человек, конечно, отличается от кота – прежде всего, речью, вместо которой животные используют сигналы («Хочу есть», «Хочу валерьянки», «Хочу подругу» и т. п.). Еще одно различие – во влиянии на поведение человека гормонов, которое ученый считает весьма преувеличенным (а некоторые их разновидности, наподобие «гормона дружбы», «гормона счастья» – и просто антинаучными).
Правда, есть еще и духовно-нравственные достижения, добытые человечеством на трудных спиралях своего развития – они-то уж входят в число существенных отличий? Оказывается, даже и здесь имеются доводы в пользу не всеми одобряемого мнения, демонстрирующего общую для поведения животных и людей базу. Автор изданной в 1970–х годах книги «Социобиология» Эдвард Уилсон вовсе не считает такие качества, как дружба, привязанность, альтруизм признаком высокого духа людей, а относит их к адаптивному поведению, которое предоставляет определенные выгоды в социуме. Это наличествует и в мире животных. Точно так же вражду и межвидовую неприязнь исследователь относит к естественному, биологически обосновываемому приспособительному поведению.
Читать дальше