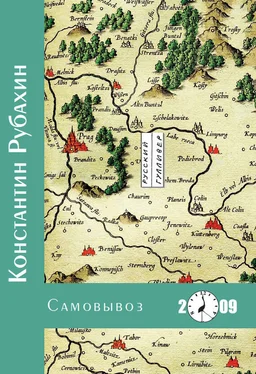Важно и то, что поэзия Рубахина обладает нечастым для современной словесности качеством – она психологична, причем вне всяких вульгарных коннотаций . Рубахин, поэт, безусловно, эгоцентричный, ставящий субъект в основание поэтического познания, никогда не отказывается от самого факта наличия внешнего мира, ему чужд солипсизм, хотя за таковой и можно признать вышеупомянутые размытость и остраненность изображения . Нет, он чуток, но чуткость эта требует и чуткости к себе .
Данила Давыдов
«Зачем солдат с себя сгоняет вошь…»
зачем солдат с себя сгоняет вошь,
пока кавказ, пока содом и сера
жужжит и оседает на него ж,
слетев со спички, или капнув с неба?
моздок уже не тот – кругом дома,
и рынок норовит залезть в бумажник;
и только солнце, также задарма,
вздымает зелень из семян вчерашних.
апрель в чечне. поля, как города,
века ужавшие до одного сезона,
не оставляют с осени следа,
и стекла выметаются из дома.
муха мрет на столе,
лапы к богу задрав,
и его исцарапать
или выхватить сверху пытаясь,
мельтешит шестерней,
как агонии вечной солдат,
как привыкший работать всем вверенным телом
китаец.
было мне 10 лет.
лета теплую пыль
город нес на себе,
и июль раздевал всех до маек.
во дворе положил
с черной ручкой ножи
наш сосед, которого имя забыл,
прибалтиец, кажется, марек.
рядом гусь кипирной тесемкой зажат:
петлей крылья, бантик на лапах;
он как веник под лавкой тихо лежал,
и под кожанной пленкой глаза
от детей собравшихся прятал.
было мне 10 лет.
во дворе был помост
деревянный – агитплощадка.
взял за лапы сосед
и птицу понес
и – кышь – покрикивая на нас —
вам такое видеть нельзя бля,
что-то сделал важное, что я сразу забыл,
только гусь опустился на землю,
скинул бантик, вразвалку к нам побежал,
и мы побежали, наверное,
от ожившей птицы, которой зоб
болтался и пустовал,
а рыжие лапы непонятно кого
носили вокруг двора.
потом он сел и под собой
стал рыть на площадке песок,
а марек швырнул в нас его головой,
и я убежал домой.
неделю мы после ходили вокруг
ямы среди двора,
процарапанной парой оранжевых ног
гуся или уже непонятно чего,
как страх, украшенье стола.
«Как таракан, решив выйти из отеческих нор…»
как таракан, решив выйти из отеческих нор,
шевелит хитином усов, прикидывает шансы
забраться под плинтус у дальней стены —
так собираюсь я в восемьдесят втором
в школу, давя сам себя коричневым ранцем,
в котором в пределах разумного решены,
по клеточкам осваивая пространство,
задачи работы домашней -
задатки чувства вины.
«Новый год по старому стилю…»
новый год по старому стилю.
в вагоне-столовой
висит мишура и выключен свет.
бордовые щупальца «дождика»
дотягиваются до котлет
на столах. поезд стоит под городом ржава
на полпути к курску.
в окнах лестницы и фонари.
проезжающий этой державой
рад любому населенному пункту,
как свету из под двери.
я держу в уме исторический слой
на метр вниз,
где москва – в сравнении с этой —
деревня, и навоз
на воздухе, не лежит,
как сегодня смог,
а лежит на брусчатке,
где на сухаревской из
башни открывается вид
на трехэтажный центр.
и, чтоб выйти из дома, сначала
ты надеваешь галоши
на общем лестничном марше.
представляя такою москву
я чувствую себя лучше,
как зная, что будет дальше,
когда тут живу
небесный бармен ни на чей заказ
в стакан москвы ночной подкладывает
льда.
экран рекламы – электронный страз,
мотив труда.
рябит окно,
одежда на полу,
сквозняк подъезд улиткой обживает,
и тело ждет тепло, как жулик похвалу,
чтоб не поверить, взгляда избегая,
но жизнь закончить прежнюю к утру.
так резко обрывается февраль,
хоть срок его пенетециарно нуден.
под санитарно-белую метель
и воду твердую, как канифоль,
остановившуюся на паяльном блюде,
я спрятаться хотел.
не по сезону общеримский календарь
солжет еще раз, начиная первый
день весны. и город белый
с утра ему, как тапки, подавай.
как с солнцем труп глазастый, леденелый,
из снега вырастет оранжевый трамвай
Читать дальше