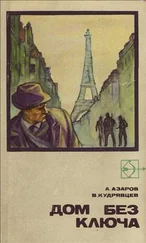Взяли, купили его в НХЛ. В Канаду, то бишь, по-ихнему, по эмигранстки говоря. А я что? Я не завидовал. Так лишь иногда вспоминал, как он мне сказал, что последний раз посмеется, когда мне не до смеха будет. И поскребла кошка на сердце. Та, одна из тех, на которых у нас ребята в школе тренировались, когда выходили драться на улицу.
– Удачи тебе, братишка, – сказал я ему тогда, когда его увезла крутейшая Беэмвуха в аэропорт. – Не посрами родину и наш дом, и двор. Помни, что ты из Чертаново, а там, чем черт не шутит, глядишь, и с Лемье и Гретцки в тройке сыграешь на кубке Канады. Только бабку свою, Попандопуло, помни, она тебе как мать была. И мать и отец, в одном, хоть и безобразном, но уважаемом всеми жильцами нашего благообразного и дружного дома жильцами, обличии.
Сказал, и забыл. А чего мне? У меня таких, как он сожителей, то есть соседей куры не клюют: тринадцать подъездов по четыре квартиры девятиэтажного дома. Не сосчитать. Арифметики не хватит. Мозги запотеют.
А он не забыл: присылал открытки, подарки. Брелоки разные, вымпелы, кубок Хоккейной славы привез на побывку. Все плакали, целовались, как на день Победы, только салюта не было. Хорошо было, душевно. Жаль не долго. Жизнь-то продолжается.
Родилась у него, значит, дочь, а он в отлучке. Ну, слухи разные пошли. Бабки засплетничали, а что им сделается, язык без костей, до Берлина доведет. Жаль, что не война.
Приехал он опять, у него машина БМВ последней модели, на пяти колесах, или шести. Языки у наших баб острые, и не такое расскажут. Насудачат.
А на дороге – прокол, или иная напасть. Встал он. Стал переобуваться. А тут встречная-поперечная. Как вдарила, так он и отлетел вместе с колесом и домкратом в кусты, или в кювет, кто его знает, где дело было. Может в пригороде, а может, и на Бережковской набережной, где партайгеноссе шмыгают туда-сюда.
Насмерть убился. Рука в одну сторону, нога в другую. Искали, на силу нашли. А склеить не смогли. Куда там. Не херувимы, не боги, поди. Простые смертные. Смерды вы, говорил, плача тесть на панихиде. А что поделать, поезд ушел, вдове одной воспитывать дочь, на ноги ставить. Слава богу, валюта, какая-никакая осталась. Только, по правде говоря, никакая валюта, даже Канадская, отца не заменит. Вот такая история без продолжения у меня получилась. Не серчайте, братья и сестры, я сам страдаю и соболезную, но ничего сделать не могу, потому что раб божий и сам под ним хожу, невесть, когда сам душу отдам, ибо грешен и злобен в сердцах, за что прощения прошу, и снисхождения не жду.
4. Мент. Сосед сбоку. Правый крайний
XX век – век отстойный. Для меня, во всяком случае. Почему век отстойный, спросите? Хорошо, отвечу. Потому что застоялся я в этом веке, задержался в нем, заплавался там, как… в проруби. Хотя, лет-то мне было совсем нечего, мал мала меньше. Но осадочек, почему-то, остался. Может, плавал я не в проруби, а в материнской жидкости. Плавал, а сам думал, как быстрее выйти на свет, вылиться вместе с водами, все равно куда, в любое отверстие, лишь бы глоток свежего воздуха. Мне и шлепка не нужно было бы, итак закричал бы, зарыдал бы навзрыд от радости, от счастья, что наконец-то обрел свет и простор, где есть, где развернуться, и где ничто не сковывает, не сдерживает, лети, как птичка, пой и чирикай себе вдоволь.
Может, не можилось мне в нем, в этом мрачном веке, в этом темном царстве, от моей никчемной, беспросветной жизни, когда путь – двойная сплошная и длинная линия, как в Лефортовском туннеле на третьем кольце, а света в конце нету. Черный тупик, о который шмякнешься со всей своей сверхзвуковой скоростью и разобьешься всмятку об отбойник в красно-оранжевую разметку, как тухлое яйцо.
Вот, XXI – иное дело. Как будто этой палкой в конце двух римских свай размешали весь этот отстойник, клоаку, омут с дерьмом, в котором я плескался, переворачиваясь сбоку на бок не в силах ухватиться, зацепиться за что-нибудь сносное, что помогло бы выбраться наружу. Пусть и в непотребном и пахучем виде, но живой, и на том спасибо. Хоть бы палку эту подсунул кто-нибудь. Для спасения и рук замарать не жалко. Да и что жалиться, когда уже с головы до ног в этом.
Покойница мать часто повторяла: «Промолчи, за умного сойдешь». А что молчать-то? Отмолчались, хватит. Вся страна молчала, когда ее грабили, как беззащитную проститутку, прости господи мою душу грешную. На-до-е-ло.
Бывало, сижу я на диване с книжкой в руке, как с синицей в кулаке, а сам мечтаю о журавле в небе. Мимо пролетают красивые живописные мечтанья, как будто я в поезде, или в самолете. Смотрю свысока на пейзажи и удивляюсь потихоньку: каково всё устроено вокруг, тишь да блажь, да божья благодать, так, кажется, в поговорке. А самого точит внутри и свербит каверзная, предательски отстающая, или наоборот, выпирающая (выпендрежная) мысль: а ведь это вранье всё, что мне показывают. И этот косогор и эти сраные буераки с раками, мать их. И остальная живопись. Всё, понимаешь, наврано. Как у вислоухого Ван Гога, скажем, или у Дали гребаного с ихними Кандинскими и Паниковскими всякими. Всё намешали в одну кучу, как… только ложку осталось туда воткнуть – не-те вам, угощайтесь.
Читать дальше