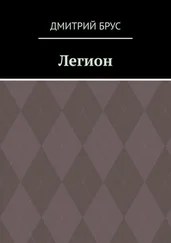Он вдруг спрашивает меня о чем я мечтаю. Я отвечаю, что, наверно, хочу стать режиссером. Я буду язвить, как только он начнет нудеть о том, что мечта должна быть возвышенной. Но вместо этого спрашивает: «Сколько тебе нужно?» – таким тоном, будто мы живем душа в душу долгие годы, у нас дети, которых он уже уложил спать, а теперь я сказала ему, что приметила в магазине одну юбку, которая ужасно мне идет. «Позер», – застигнутая врасплох. Просит заодно взять сигарет, бумаги, говяжьей вырезки и красного вина. Моя мечта оказывается где-то между мясных рядов с небритыми смуглыми продавцами в белоснежных фартуках и киоском со скучающей мухой на витрине. «Чтобы как твои губы», – говорит он и принимается за растопку камина. Обычно люди, узнав о чьей-то мечте, начинают делать выводы о человеке, но этот – либо мудак, либо святой – предложил помощь настолько банально, что из банальности его предложение превратилось в какую-то щемящую в груди искренность, от которой тепло и хочется закружиться в танце. «Мне хочется тебя обнять», – хочу сказать я, но все же молчу, убеждая себя, что молчание мое от природного чувства такта. А я совершенно бестактна.
– Я смотрю фильмы только на французском, – говорит он.
– Почему?
– Потому что я его плохо знаю.
Я сначала подумала, что он дурит, как говорят «валяет Ваньку», говорят, говорят, раззеваются, но после слова его оказываются близки: я и сама время от времени проникаюсь чувственным звучанием каких-нибудь итальянских арий; помнится, однажды узнала перевод: служанка чистит морковь и не может решить: чья из доброго десятка ухажеров «морковка» слаще. Я чуть не сгорела со стыда, вспомнив, как плакала под эти звуки, проклиная себя за то, что отвергла единственное сердце, меня по-настоящему любившее. Для меня грустные напевы были именно об этом. Но священное в моей памяти было мгновенно обезображено невероятной пошлостью. Теперь же в памяти что-то происходило. Что-то необъяснимое ни одним учебником.
– Вот и хорошо, – подглядывая мысли. – Что ты хочешь посмотреть?
– Хочу, – отвечаю я.
Он сказал, что напишет сценарий. Или это сказала я? Сказал и тут же взялся за дело: сел, достал бумагу, чернила, смахнул излишек черноты со стального пера и принялся что-то царапать. Я видела стальные перья только в детстве у своего отца, который своим пером почти не пользовался, потому что уже были шариковые ручки, с которых никакая чернота не проливалась. Этот же заправски скрипел, обмакивал в чернильницу и снова скрипел – будто совсем забыл про меня. Может, и забыл. Кто его знает? Я вышла, как водится в подобных историях, было туманное утро.
Расскажи мне что-нибудь, чтобы я засыпала, как в детстве. Чтобы горел ночник звездами над моими смущенными снами. Чтобы я поджимала коленки к груди от чувства: вот-вот и начнется! Расскажи мне о себе. Какой ты. Что ты думаешь. О чем боишься сказать. Пусть это наивно. Я хочу, чтобы ты рассказал.
Магазин оказался здесь же – за углом, в пятидесяти шагах (я специально считала, чтобы отвлечься) и в скольких-то ударах сердца (их я тоже пыталась считать, но сбилась на -дцатом). Из краснокирпичной стены магазина выглядывал экран банкомата: я вставила карту. Экран показал столько нулей на счету, что у меня пересохло в горле. Беги, дура, беги!
Перед глазами почему-то всплыли натягивающиеся на голую задницу джинсы бывшего. Когда он стал бывшим? Вчера ли? Или все же никогда и не был нынешним, то есть настоящим, то есть своим? Такси до ближайшего аэропорта. Какое ближайшее? Она хлопает себя по карманам в поисках документов. «На месте!» – выдыхаю, таксист оборачивается. Пожалуйста, пожалуйста, можно быстрее! Куда лететь? Она пялится в табло ближайших рейсов. Есть Амстердам. И Патайя. Амстердам, Амстердам через каких-нибудь два часа я уже на старых улочках, переночую в отеле, а завтра снова в самолет и дальше – за океан. Или лучше остаться в Европе? Купить скромный домик но только на самом берегу, чтобы засыпать под шум волн, ходить в ближайшую церковь и каждый день стоять на коленях с молитвой за этого чудака, пусть живет вечно, пусть живет, пусть он окажется там же, выводящий свои темные письмена, когда я войду. Она совсем из ума выжила.
Она зашла в магазин, потупив взгляд, как преступница или нищенка, намеревающаяся украсть пакет молока и хлеб. Мне стыдно. Лицо горит пламенем. Воровато взяла вина, мясную вырезку и подошла к кассе: «И сигарет, пожалуйста», – сказала так тихо, что кассирша едва меня расслышала. Пыталась снова считать. Изо всех сил пыталась, но видела только кончики носков своих рыжеватых ботинок, несущих меня обратно: за ржавую дверь, к безумцу не из века, скрипящего стальным пером, разводящего черноту, каплющего туманными мыслями на белую шершавую бумагу. Так и вижу: склоненный, волосы спутаны, на высоком лбу от самых сдвинутых в задумчивости бровей тянется морщина и пропадает за кудрями. Хочется тихо подойти сзади и осторожно спахнуть с темного плеча пылинки. Хочется, чтобы почувствовал мою руку. Пусть сон несет меня по этим туманным землям, заглядывает в потускневшие окна, сквозит меж дверей, поднимая опавшие листы испещренной чернилами бумаги, пусть продолжается. Бедная, бедная девочка, кто омоет твои уставшие ноги, кто уложит в чистую постель и поцелует заботливо в рыжие волосы, кто расскажет историю при взошедшей луне, чей голос успокоит твое истосковавшееся сердце? Зачем ты проснулось, сердце?
Читать дальше