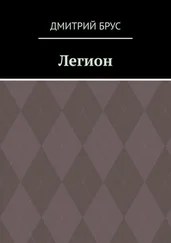Верно ли? – это был совсем другой город. Без кричащих витрин, без неоновых вывесок и билбордов с зубастыми моделями. Пустой город. Спрятавшийся. Колеса на чемодане отлетели на первой же выбоине по ту сторону, которых на моем темном пути оказалось великое множество. Выбоина за выбоиной – я иду неизвестно куда под свет мигающих, искрящих фонарных столбов. Плеск воды от меня все не отступал. Выдохнувшись, я обнаружила себя у здания, больше похожего на заброшенную фабрику: стекла кое-где выбиты, по двум кирпичным трубам что-то вьется: в темноте не разглядеть. Кустарник прижимает старые стены. Я подумала, что если начнется дождь, то здесь я хоть смогу от него укрыться. Скрипнула проржавевшей дверью, вошла в пыльную темноту, – и действительно пошел ливень такой силы, что мог бы смыть меня в темные воды холодной реки. Мертвой реки. Я долго блуждала по многочисленным просторным залам, пока, наконец, за одной из дверей не обнаружила на удивление чистую и опрятную комнату, заваленную плесневелыми книгами. Была даже кушетка, которая могла бы принять меня, уставшую от ночных бдений. Я тут же свалилась на нее без сил и уснула. И снилось мне, что я в пещере. И в пещере мальчик. И мальчик этот со слезами поедает груши, которые украл из чужого сада безо всякой на то надобности: не от голода, но из чистого мальчишеского озорства. Груши были спелы и на́верно вкусны, но мальчик ел их будто против своей воли, уже давно пресытившийся своим поступком, от которого плоды были ядовиты и пахли гнилью. Бедный, бедный мальчик! Что же ты наделал!
Груши. Пахнет грушами. Спелыми, сочными. И еще что-то. Кажется, дымится. Я чувствую этот дым, знаю о нем, еще не открыв глаза. Представляю, как в луче света кружат пылинки. Представляю, как встану с кушетки и подо мной скрипнет старый дощатый пол. Не провалиться бы в Тартар с таким полом. Над входом в анатомический театр университета, где я училась, значилось: Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae. В переводе с мертвого: «Здесь место, где смерть помогает жизни». Когда я об этом задумываюсь, мне хочется представлять себя в третьем лице. Вот она сидит взъерошенная на лекции, слушает. Не верит. Докопается самостоятельно, переворошив все библиотечные каталоги, потом запрется в туалетной комнате. Снаружи стучат. Это уборщица. Поздно уже. Лампы люминесцентные жужжат, как надоедливые насекомые, мигают. А она забылась и может быть просто домой не хочется. Чего ты не идешь, дура? Да иду я, иду. На столе груши – между книг и каких-то бумаг и растушеванных ватманов на подносе дымится завтрак: курица с картофелем и зеленью, молоко в склянке. И груши. Аккуратно произвести разрез ткани от верхнего основания плода к его нижнему основанию. То есть оснований два? Разрежь – и будет четыре? Эта спелая множественность сомнительна. В том самом театре однажды, поговаривают, один брат разрезал другого брата в целях научных. Как у Толстого: все убивают, чтобы понять. Один был будущий вождь мировой революции, другой – чахоточный, умерший не успев распорядиться о теле. За дверью что-то, кажется, картавит. За ней – проверила – ванная комната. Влага на трубах, будто вода просачивается. Никого. Зала одна за другой, дверь за дверью – никого. Иногда я представляю, что рядом со мной человек, слишком понимающий мои тревоги и потому не выходящий из тени. Вот он дышит рядом. Губы его шевелятся. Подари мне чистоту сердца и дай сил сдержаться. Но не спеши. Я знаю, откуда это, говорю я, шевелю губами. Знаю. И принимаюсь за еду.
Вполне возможно, что в жизни не было ничего кроме одиночества. И рано или поздно на помощь отчаявшейся душе приходит, вполне возможно, не совсем здравый смысл. И вот уже шевелятся губы, вот уже перед глазами тот, с кем хочется говорить всю оставшуюся жизнь. Так и представим. Он сейчас отряхивает вполне сносное платье, и почему-то напоминает в нем Канта: сухопарый, длиннополый, только кюлот не хватает и шелковых чулок. Впрочем, не стар и вполне себе, почему он показался таким? Каким? Каким бы я его не выдумала, он – только часть меня. Возможно лучшая. Возможно, она убьет меня. Или мы будем жить долго и счастливо, как в сказке. Он – царевич, я – несмеяна, щука, прорубь, ледяная вода, снег на его ресницах, последняя любовь на земле. Размечталась. Это все темные воды, бдения и пролитая вовремя чашка. Хочется есть, ужасно хочется. «С вашего позволения», – расшаркиваюсь. Он принимает все за чистую монету, встает передо мной и кланяется. Галантен, черт. Действительно не из века.
Читать дальше