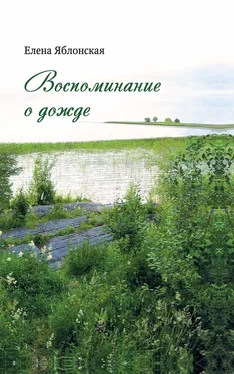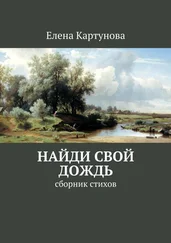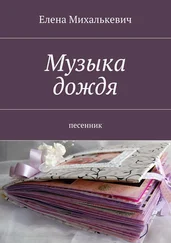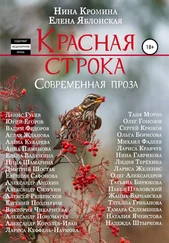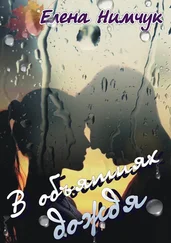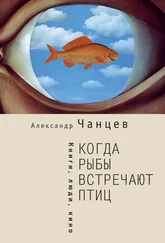Я уговорила друзей поехать в выходные на Плещеево, благо оно совсем недалеко от Курослеповки, чуть больше ста километров. Всю дорогу рассказывала о сказочном озере, о зайце, щуках, ужах… Муж важно кивал, подтверждая. А приехав – ничего не узнала. Мы долго кружили, пытаясь хоть куда-то поставить машину – то детский лагерь, то санаторий-профилакторий, то ещё какой-то забор… Домика лесника нет и в помине… Да что забор! Что домик! Само озеро стало другим, изменились его очертания, исчез наш пляж-луг, перелесок превратился в густой лес, заболотились берега… И только монастырь по-прежнему светит из-за озера белой стеной, говорят, он теперь очень красивый, отреставрированный, богатый… Оказалось, двадцать лет – огромный срок. Всё меняется, становится неузнаваемым или исчезает безвозвратно, растворяется без следа. Остаётся только воспоминание – мутным, нечётким, расплывающимся старинным снимком, где мы с Варей – обе в свитерах, штормовках, резиновых сапогах – выглядываем из-под полога палатки, подставляем смеющиеся юные лица под моросящий дождь… Одно лишь воспоминание… Воспоминание о дожде.
На остановке колыхалась очередь. Она была не слишком длинной, но зато непрерывно ширилась, расплывалась, произвольно меняла и без того непростую конфигурацию. Столь же сложным образом клубились над ней сигаретные дымы. Внезапно возникали и вновь заполнялись пустоты. Кое-кто из стоявших, завидев знакомых, перебегал ближе к началу. Другие, пересчитав по головам колыхавшихся впереди людей и безнадёжно махнув рукой, направлялись в другой конец автовокзала, где у столба по давнему негласному соглашению останавливались частники. Правда, там была своя, тоже довольно большая размытая очередь. А некоторые, озабоченно оглядев соседей и помявшись: «я отойду ненадолго…», с надеждой бежали к кассе. Последний автобус в Сосновку через Курослеповку отходил через пятнадцать минут. Это-то меня больше всего огорчало. В другое время я бы покорно стояла и рано или поздно достоялась бы. Но мысль о том, что автобус сейчас покатит домой, и я тоже могла бы, если бы хоть чуть-чуть подсуетилась… Суетиться не было сил. Да и в кассу, конечно, тоже очередь, и неизвестно, есть ли места. Но если бросить муравьиное копошенье здесь, очередь будет потеряна, потому что знакомых, как нарочно, никого и все беспрерывно бегают туда-сюда. На маршрутку тогда уже не сесть, частники – вообще ненадёжный вариант. Все три курослеповских «варианта» – маршрутка, автобус, частники – очень искусно разбросаны по разным углам вокзальной площади. Судя по всему, специально, так, чтобы отсюда не было видно, что делается, например, у кассы. В этих вялых раздумьях, с медленно наливающимися свинцом ногами (голова-то и спина привычно «освин-цовели» ещё на работе) я разглядывала мятущуюся курослеповскую публику. Почти все мне были знакомы по ежедневным поездкам на работу, но всё же не настолько, чтобы попросить кого-нибудь спокойно постоять, пока я добегу до кассы. Вот юноша – вихляющийся стебелёк с таким же, как он сам, длинным и тонким хвостом давно не мытых волос – студент, сын моих знакомых. Этому паршивцу папаша выбил общежитие, но он предпочитает каждый день ездить кушать к мамочке, тем самым создавая нам очереди. Меня он не знает, да и не до меня ему вовсе. Из метро выбегает и подваливает к «стебельку» гогочущая компания, человек шесть, такие же длинноволосые парни с ушами, заткнутыми наушниками, девчонки с голыми пупками, у каждого в руке открытая бутылка пива: «О, Диман, ты тоже в КаэС, вот классно!»
«КаэС» – так наша молодёжь шифрует Курослеповку. Звучит загадочно и выпендрёжно. Моё же поколение, попавшее в Курослеповку в основном по распределению после институтов, называет её «наша деревня». Я «нашу деревню» тихо, про себя ненавижу – за то, что не Москва, за то, что все тебя знают и судачат, как в настоящей деревне. За то, что каждая встречная собака обязательно спрашивает «как дела?», а в ответ надо осклабляться и пороть всякую чушь, а то обидятся и будут за глаза говорить гадости. За настоящих, деревенских комаров, за хилые ёлки, за нездоровые ежевечерние туманы. За усиливающиеся с каждым годом пробки на узком Щукинском шоссе и вообще… есть за что. Но как-то Андрюша Орлов, наш краевед, сказал: «Мы должны любить Курослеповку хотя бы потому, что это родина наших детей», и я неожиданно для себя помягчела, что ли. «Должны любить» – это я понимаю. Андрюшину статью-исследование опубликовали в «Курослеповской газете». Курослеп – это такое растение, растёт на окрестных болотах, на всех мусорных свалках и к тому же ядовито. Однако на герб недавно организованного «муниципального образования “Городское поселение Курослеповка”» стараниями Андрюши и других немногочисленных энтузиастов был водворён диковинный куст с жёлтыми цветами, тропической роскошью своей едва ли не потеснивший областного Георгия с копьём и змеем. Такому бы кустику в диких лесах Амазонии цвести, а не на наших бедных торфяниках, дружно горящих каждое лето из солидарности, должно быть, со всеми остальными болотами Московской области.
Читать дальше