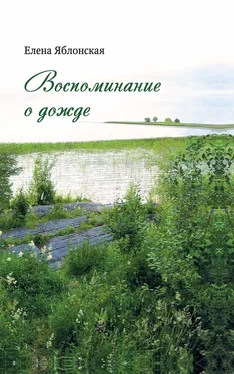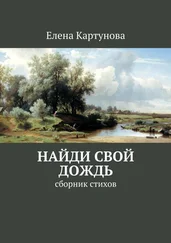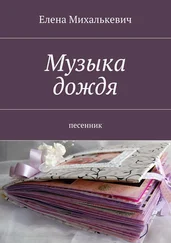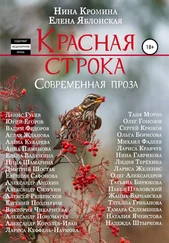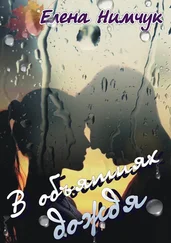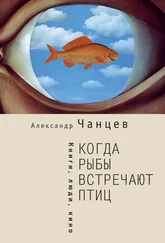Впрочем, мы с Варей в проблемы рыболовства принципиально не вникали, отвечали только за провизию. Перед самым отъездом у Вари дома мы до грамма взвешивали наши рюкзаки – всё было общим, а значит, всё должно было весить одинаково: наши рюкзаки не тяжелее десяти килограммов, рюкзаки мальчиков – по восемнадцать. Хотя Саныч, кажется, в последний момент взвалил на себя существенно больше.
Удивительно, но не только у нас, иногородних, но и у москвичей Вари и Саныча своих рюкзаков не было! Купить их было не так-то просто – и дефицит, и денег нет. А в пункте проката – пожалуйста, дёшево, на любой вкус! Палатка же нам досталась от Вариных родителей – Варя помнила, как они ставили её в саду на дедушкиной даче и спали, на потеху родственникам и соседям, в ней, а не в доме, так им, бедным, в поход хотелось! Что и говорить, Варькины родители очень нам сочувствовали и всячески помогали.
И вот тридцатого апреля 1977 года мы сели в электричку и поехали. Сначала в Загорск, нынешний Сергиев Посад, по-весеннему шалый и по-летнему пыльный. Наспех закусывали пирожками на автостанции, у бочки с квасом. Потом вдруг выяснилось, что дневной рейс на Переславль-Залесский мы пропустили, а следующий автобус пойдёт довольно поздно.
В Переславль прибыли в синих сумерках. Саныч высматривал на пустынной площади редких прохожих (в этот поздний час спешили с работы только пожилые мужчины) и подолгу с ними беседовал, выяснял, куда и как ехать. Потом ещё дольше стояли под холодным, быстро чернеющим небом с колко мерцающими звёздами. Подмораживало. «Звёзды, ночь будет морозная, – раздумчиво молвил Саныч, подняв к небу глаза. – Ну что, Варька, к мамашеньке захотелось? К ватерклозету?» Варька не удостоила его ответом, а я, как всегда, радостно засмеялась. Мне нравилась напускная Санычева солдафонистость. Наконец подъехал служебный автобусик с единственным пассажиром – дядька ехал на ночное дежурство куда-то «на линию», он же объяснил, что нам надо выйти «у ботика Петра» и пересесть на «кукушку», поезд, состоящий из паровоза и одного вагона, что ездит вдоль озера по узкоколейке всего лишь два раза в сутки, рано утром и поздно вечером. «А выйти вам надо, – добавил, – обязательно на третьей остановке, ближе всего к берегу, а то потом узкоколейка отклоняется от озера… а щуки та-ам… да-а… вот та-а-кие… я тоже иногда езжу рыбалить… не пожалеете!»
Мы слезли с «кукушки» в абсолютной темноте. Паровозик прощально прокричал, и мы захлюпали по подмёрзшей воде. Где же озеро? Что-то не видно, вон сосны торчат, вон ельник, а вот какие-то кусты, и всё вода, вода под ногами, болотный запах, тишина… Наконец скинули с уже ничего не чувствующих, одеревеневших плеч рюкзаки, наломали лапника, покидали его в мёрзлую воду, и пока Сашка с Санычем ставили на лапник палатку, мы с Варькой соорудили «могилу» – соединили молниями, кое-где сшивая, два ватных спальника. Всё было давно продумано до мелочей, возможно, Варькины родители подсказали: ни в какой мороз не замёрзнешь, если влезть в общий спальник вчетвером и раздеться до трусов и футболок – будете согревать друг друга дыханием и своими горячими молодыми телами. Конечно, перед тем как заснуть, мы и водки выпили, закусив баночной килькой в томате. Метался по брезентовым сводам палатки неяркий свет то и дело гаснущей свечи; Варя опасалась пожара и сердилась на Саныча, в очередной раз потерявшего спички; «Какие спички! – трагически отзывался Саныч. – Я, кажется, водку пролил»; Сашка в пятый раз вопрошал, где же нож – хлеба отрезать; я пищала, что банка с килькой перевернулась, а спальники-то казённые, теперь не отстираешь… И было – да, было очень тепло, даже жарко от нашего дружного дыхания, от взрывов хохота, от молодых и горячих здоровых тел…
Утром оказалось, что мы поставили палатку правильно – озеро было в двух шагах. За чередой невысоких сосен расстилался огромный песчаный пляж, который очень скоро, высохнув, был призван стать лугом, пока же его частично покрывала вода. Прямо перед нами светила с другого берега белая, чуть розовеющая от восходящего солнца стена монастыря, а в самом конце нашего берега, «в торце» озера, выглядывало из тумана бревенчатое строение – домик лесника в истоке реки Вёксы, не впадающей, а, напротив, вытекающей из Плещеева озера. Именно в неё, сказал Саныч, заходят на нерест щуки из Плещеева. С тех пор мы не называли его озером – просто Плещеево, одушевлённое и одухотворённое существо, такая же личность, как и каждый из нас, со своей историей и непростым характером.
Читать дальше