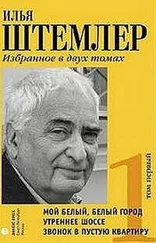– Всего одна минута, Максим. Она ведь у вас есть?
– Кто дал вам этот номер? – парень сдул с кулера слой пыли. – Целых две минуты, Юрий Юрьевич.
– Стрельцовский…
Максим молчал, мысленно рисуя контуры изученного наизусть лица и чувствуя, как ледяная глыба тает у него в желудке. – У вас сломался компьютер?
– Нет, я хочу поговорить о Жене, – голос у Юрия был неспокойный. – Мы договорились о занятиях вне расписания, он не успевал закончить экзамены в срок. Я назначил дополнительные часы на двенадцатое число, а он так и не объявился. В последнее время Стрельцовский сам на себя не был похож. Вы его друг. И я подумал, может быть, знаете, где он? Почему не посещает занятия?
– Я, – Архипов потёр уголки глаз подушечками пальцев, – мы уже месяц не общаемся.
Юрий осёкся, будто что-то обожгло ему язык. Теперь мужчина только глухо дышал в телефон, как простуженный. Максим тоже молчал. И между ними гудела пустая и абсолютно бессмысленная тишина, которой не было ни конца, ни края. Хотелось повесить трубку. – Мне жаль.
– Подождите!
Архипов поморщился.
– Женя не стал бы исчезать, никого не предупредив.
– Послушайте, я понятия не имею, где он и что с ним. Если он и предупреждал кого, то точно не меня. – Где-то на задворках сознания у Максима мелькала мысль, что надо бы обеспокоиться исчезновением Жени. Но он не ощущал ничего кроме навязчивого желания закончить разговор как можно скорее. Архипов отпихнул от себя ноутбук и подошёл к приоткрытому окну.
– Он дал мне ваш номер, Максим, – не унимался Юрий, – на тот случай, если с ним что-нибудь случится. Значит, ближе вас у него никого нет.
– Вы правы. Так оно и было, – Максим смахнул с подоконника холодные снежные хлопья, – однако теперь я не могу просто так взять и без спроса вломиться в его жизнь, даже если он не посещает ваши занятия. Просто не имею права.
– Не имеете права или просто не хотите?
Максим не шелохнулся, но рубашка на его спине стала мокрой и противно прилипла к телу. – Стрельцовский не из тех людей, которые вечно ввязываются в неприятности. Чуть больше недели – разве это много? Иногда Женя так делает, он слишком много работает и выдыхается. А потом сутками напролёт торчит дома и отсыпается. Объявится в любом случае, просто потому, что не позволит себе завалить экзамены. – Архипов закрыл окно и повторил ещё раз, но как бы только для того, чтобы убедить самого себя: – Не позволит. Живопись ему дороже всего на свете.
– Максим, мы ведь говорим не о каком-то человеке, а о вашем друге. Пусть даже вы с ним и в ссоре сейчас. Но прошу, подумайте о нём. Ведь Женя даже на звонки не отвечает.
Максим сомкнул веки и губы его лихорадочно и беззвучно зашевелились. Он подумал, что согласиться с Юрием сейчас будет быстрее и проще, чем стоять здесь и теребить разговор ещё неизвестно сколько времени. – Хорошо.
– Максим.
– Сказал же – проверю.
«Проверю» не значило ровным счётом ничего. Но после разговора Максим долго смотрел в окно, прислушиваясь к ровным как во сне ударам сердца в своей груди. Ничего не происходило, а он ждал. Ждал и следил за проползающими внизу автомобилями. Ждал чувств, пока грязный снег сбивался под колёсами машин. Бесконечная вереница тащилась на северо-запад города. Кто-то на работу, а кто-то – вон с неё. Спешил домой, прямиком к родным. Возможно, в точно такие же тесные студии. К своим художникам? Суетливая неряшливая и уродливая вереница, созданная миллионами людей. Все они опаздывают. Максим потёр затылок и вспомнил случайно, как горячая рука Жени ласково трепала его по загривку, когда Максим начинал нервничать – стоило им попасть в точно такой же затор. Помнил, будто переживал всё наяву: он за рулём, Женя сидит рядом, впереди сигналит пять десятков машин и позади их не меньше. А Стрельцовскому плевать, улыбается и шепчет на ухо Максиму всякий вздор. Куда он мог пропасть? Мог ли влипнуть в какую-нибудь неприятную историю? Может быть, Женю сбила одна из этих машин? Может, какие-нибудь пьяные ублюдки подкараулили его с ножом в подворотне? И сейчас Женя лежит где-нибудь за гаражами такой же белый как снег? Максим поджал губы и кинул взгляд на выпотрошенный ноутбук. Кадры из прошлого замелькали отчётливо, будто на фотоплёнке.
В той маленькой студии на Грибоедова всегда было прохладно: старые трубы слабо пыхтели и с трудом прогревали воздух до восемнадцати градусов. Так что по утрам тело пыталось сохранить остатки тепла под одеялом. И выбираться из постели не особенно хотелось зимой, когда ударяли сильные морозы и деревья под окнами густо обрастали инеем. В их тесной студии вечно царил полумрак и беспорядок: слой тонкой пыли на книжных полках, грязные кисти в банках из-под кофе и повсюду наброски полуобнаженных мужчин или женщин. Затёртые виниловые пластинки, которые всё равно не на чем было прослушать, армия гипсовых голов на подоконниках, на стенах – целое множество копий уродливых венецианских масок. Совсем новенький полароид и куча фотографий. Тубусы, огрызки карандашей, мумифицированные цветы для многочисленных натюрмортов. И в самом центре этого хаоса мольберт, служивший чаще вешалкой. А на кухне – полная окурков пепельница. Женя курил много. Курил ни что попало, а «Чапман». И часто выбегал на лестничную площадку, где дым после него стоял угарной завесой. Иногда, когда настроение у него было паршивое, он курил в форточку на кухне, аккуратно стряхивая пепел в битую стеклянную пепельницу, и буравил отсутствующим взглядом серые горизонты каменных джунглей. Он решал в голове какие-то непостижимые никому другому головоломки, мучился весь день. Не ел, не спал, а потом бросался к мольберту и рисовал с такой ревностной самоотдачей, что потом вообще на ногах не держался. Его начинало подташнивать, как только он понимал, что дело пахнет финишем. И весь бледнел перед размалёванным полотном. А после обессиленно падал в постель и спал без движения около суток так, что нельзя было понять, жив он или уже нет. С Женей всё выходило как-то через-чур. И даже тосты на завтрак получались у него через-чур сухими. Такими сухими, что об них запросто можно было содрать нёбо. Или наоборот через-чур сырыми. Такими сырыми, что таяли во рту, как безвкусная вата. Женя всерьёз был болен искусством. Он жизни не мыслил без своих красок и кистей. Но редко когда оставался довольным. «Полная ерунда», – вот так он часто выражался, когда любовался ещё мокрыми полотнами. Он мог влюблённо работать над одной картиной сутками напролёт. А в следующее – с лёгкостью избавиться от картины, скромно оставив её возле мусорных контейнеров по дороге на работу.
Читать дальше
![Белый Крот Я [не] шучу обложка книги](/books/536177/belyj-krot-ya-ne-shuchu-cover.webp)