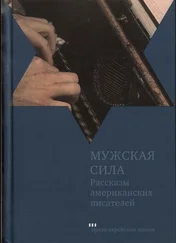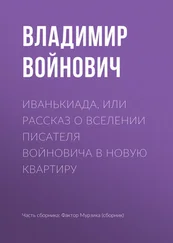И вот теперь спектакль, кажется, пойдет на «бис». Только вместо киприотов, которые, кстати, недавно добились своего, здесь будут негры, которые в должное время тоже добьются своего. А Тим с солдатами еще разок сыграют роль живых мишеней, выставленных напоказ символов иноземного владычества. Африканские камни на вид еще увесистей и тверже, чем кипрские, и их здесь больше, это уж наверняка.
Причем здесь, думал он, шагая по красной дороге к уже завидневшейся ферме, положение еще сложней, еще запутаннее, еще неопределеннее, чем когда-либо было на Кипре. Там было просто усмирение мятежников или, если взглянуть на дело с другой стороны, жестокое и реакционное подавление борющейся за свою свободу маленькой общины. Здесь же он с солдатами — собственно говоря, весь батальон, хотя сейчас только два взвода находились на равнине, — лезли вон из кожи, выбивались из последних сил, стараясь ублажить тех самых африканцев, которые через несколько дней, возможно, будут швырять в них камнями.
Тим был не охотник до газет и довольно смутно представлял себе историю, которая случилась с беглецом, но она была достаточно простой, чтобы в ней смог разобраться даже самый глупый из его солдат, кстати тот самый Маконахи, чью винтовку нес сейчас Тим.
Местный фермер, один из многочисленных поселенцев голландского происхождения, живущих в округе Клипсвааль у границы протектората с Южно-Африканской Республикой, до смерти избил за воровство слугу. Относительно его намерений у судей не возникло никаких сомнений: всем было ясно, что убивать он не хотел. Жившие в протекторате поселенцы — и в первую голову буры — ожидали, что согласно обычаю с убийцы взыщут очень большой штраф, сделают ему предупреждение и выпустят на волю, деньги же в виде компенсации, как издавна ведется в Африке, передадут семье убитого. И хотя недавно созданная Африканская партия свободы устами своих доморощенных ораторов с первых же дней потребовала смертной казни для убийцы, поселенцы были ошарашены, когда ему и впрямь был вынесен смертный приговор. Новость мигом всколыхнула весь протекторат, и страсти накалились до таких пределов, что гарнизонные войска были объявлены в состоянии боевой готовности, которое не отменялось и по сей день. Вопрос о казни бура приобрел политическую окраску, да и неудивительно, поскольку — что бы там ни твердило правительство — политическими соображениями был продиктован и сам приговор, вынесенный в знак признания или, во всяком случае, смирения перед ветром перемен. Демонстрации (про и контра), петиции (про и контра), ультиматумы (про и контра). Тем временем бур Холтье находился в камере под наблюдением двух белых тюремщиков-офицеров, поскольку все нижние чины в тюрьме были из чернокожих. Чернокожим был и палач, но из Британии уже выписали белого, дабы он вздернул осужденного, не оскорбляя его чувств.
Первый взрыв произошел в тот день, когда британский губернатор отклонил апелляцию Холтье. Разъяренные поселенцы бросились к губернаторской резиденции и, отшвырнув туземцев-часовых, попытались вломиться в парадную дверь. Только прибытие роты британского гарнизонного полка спасло от линчевания представителя королевы. Но участь Холтье в этот день была решена; столкнувшись с угрозой насилия, правительство не могло отступить и пошло напролом, вызвав такую ненависть белого населения, что ни один из членов правительства не рисковал и носа показать на улицу. Подверглись остракизму и британские войска — орудие внезапно сделавшегося одиозным британского господства. Поселенцы не приглашали теперь военных в гости и сами перестали ходить в гарнизонные клубы; на улицах оскорбляли солдат, в них плевали, даже избили одного или двух. Снова все как на Кипре, думал Тим, и даже еще хуже, потому что тут большая часть врагов — свои же, англичане.
Затем Холтье бежал. Как ему это удалось — неясно, и чем дальше, тем меньше можно было что-либо понять благодаря стараниям правительства замазать дело. Побег организован был со стороны, но, разумеется, не обошлось без помощи и попустительства тюремных служащих. Поселенцы ликовали, зато яростная волна демонстрантов-туземцев пронеслась по улицам столицы, и только что вставленные в окна губернаторской резиденции стекла снова усыпали осколками затоптанные клумбы под высокой стеной.
Такова была обстановка, когда два дня назад подполковник гарнизонного батальона королевских стрелков вызвал к себе офицеров на предмет инструктажа. Полковник Орринсмит был в годах и собирался в отставку; добросовестный и туповатый старый служака, весь изрешеченный пулями, он славился прямо-таки фантастической живучестью. Крепко напившись, что случалось часто, ибо он имел обычай таким образом отмечать годовщины своих тяжелейших увечий, полковник поддавался иногда на уговоры и демонстрировал свои шрамы счастливчикам, которые рассказывали потом приятелям, что это жуткое зрелище. Ходили также слухи — нижние чины им свято верили, — что, когда во время битвы при Эль-Аламейне полковника буквально разнесло на куски снарядом, его спасли лишь благодаря обильному переливанию крови, взятой у пленного итальянского солдата, который, как впоследствии выяснилось, был дефективным от рождения Многочисленные странности полковника объясняли тем, что кровь заморского дурачка не может так, как следовало бы, снабжать сосуды его мозга. Печальное это событие — то ли легендарное, то ли действительное — не только не умалило полковничьего авторитета, но даже способствовало популярности полковника, особенно среди унтер-офицеров и рядовых. Те всегда стремились его оправдать: «Что c него взять, с дырявого, видать, опять ударила ему в башку кровь придурошного макаронника». Офицеры, хотя и не верили — или делали вид, что не верят, — этому мифу, когда на полковника «накатывало», считали историю с итальянцем вполне правдоподобной.
Читать дальше