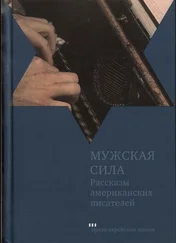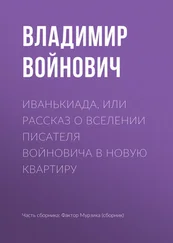Но никто, кроме одного или двух, что ли, парней, не хотел ничего подписывать, а я уж и не говорю про демонстрацию, и мне стало ясно, что я сам все должен сделать, и вот к вечеру я окончательно решился.
На другой день, часов около двенадцати, я приколол к пиджаку эмблему нашего клуба, и отец меня спросил: «Собираешься на матч? А я сегодня встретил парня с твоего завода, так он вроде сказал, что ты с ними покончил», — и я ответил отцу: «Не с ними, а с ним». Он говорит: «С кем, — говорит, — с ним? Уж не с Грейнджем ли?»
Я пришел очень рано, часа за два до матча. Обычно я устраиваюсь на Северной трибуне, где собираются самые понимающие парни, но в этот раз я туда не пошел, а спустился вниз, к главному выходу на поле.
К двум часам дня, за час до начала — так рано собрались зрители — ворота уже заперли, и сперва я радовался, что народ все подваливает, а теперь вдруг понял — отступать некуда: публика собралась, и мое время приближается.
Вскоре заиграл полицейский оркестр — они всегда играют перед началом матча, — и один полисмен стал петь в микрофон: «О мать — великая река», ну и дальше, и я знал, что, когда команды выйдут на поле, оркестр заиграет «Сними-ка шляпу» — в честь «Юнайтед».
А время шло, приближалось три часа — начало матча, и меня стало трясти, и там было так тесно, что стоящий рядом со мной парень спросил: «Ты что, болен?» — и я ему ответил: «Да нет, все в порядке», — но не смог унять дрожь, и у меня, помнится, даже стучали зубы.
И вот команды вышли на поле, и оркестр заиграл «Сними-ка шляпу». Футболисты проходили футах в двадцати от меня, и я их всех видел яснее ясного, и я видел его — светловолосого, с короткой стрижкой, — и он, как всегда, жевал резинку. Но вот оркестр замолчал — и больше ждать было нечего.
Я выбрался из толпы, перемахнул через перила, пересек гаревую дорожку, выскочил на поле, подбежал к оркестру, схватил микрофон и — никто еще не успел опомниться — заорал: «Долой Томми Грейнджа! Нам не нужны жулики!» — и мой голос мощно загремел в громкоговорителях, и его было слышно по всему стадиону. Я крикнул: «Гоните его, он взяточник и жулик!» — и тут меня схватили, но мне было наплевать. Я свое сказал. Пусть делают теперь со мной что хотят.
Гвин Гриффин
Рассвет над Рейновой горой
(Перевод Е. Коротковой)
Двигаясь к западу, спускаясь к каменистым гребням Стромбергов, послеполуденное солнце уже растратило часть своей силы к тому времени, как патрульные прочесали последний из апельсиновых садов Люйта и, замученные жаждой, в мокрых от пота, припорошенных мелкой красной пылью гимнастерках сходились к дорожному перекрестку. Глядя из «джипа», как они приближаются к месту сбора, комиссар Тарбэдж с глухой досадой понял, что дело кончилось ничем, и, значит, нужно съездить к Люйту, и выдать ему свидетельство, что на его участке ничего не найдено. А если солдаты что-нибудь повредили на ферме — любую пустяковину, — Люйт, конечно, будет жаловаться, и его претензии опять же нужно разобрать. Раздраженный новой неудачей Тарбэдж более резко, чем собирался, сказал начальнику патруля, молодому лейтенанту лет двадцати с небольшим, который подошел к «джипу» с докладом:
— Знаю, знаю… ничего не нашли.
— Так точно. Ничего.
— Вы везде искали? Так, как я объяснил?
— Везде, так, как вы объяснили. Тем же манером, что и вчера, позавчера… и, наверно, завтра тоже.
Тарбэдж кивнул, вглядываясь через долину в острые вершины Стромбергов, окруженные убегающими в голубое небо блестящими волнами марева; каменистый склон горы был так слепяще, резко бледен, что у комиссара защипало глаза и выступили слезы.
— Должен же я спросить. Я знаю, что вы старались. Просто я немного опасаюсь, что сейчас, когда люди устали, а за океаном затевают этот чертов кавардак… — Тарбэдж замялся, стараясь точней объяснить, по каким причинам он усомнился в рвении солдат, но, пока подыскивал слова, вмешался лейтенант:
— Вам кажется, мы не очень стараемся? Мы делаем все, что можем, мистер Тарбэдж. Если хотите знать, нам так обрыдли эти поиски, что хоть вой от скуки.
В голосе лейтенанта прозвучала неприкрытая враждебность, и Тарбэдж тоже вспыхнул. Многолетняя служба в полиции южноафриканского протектората выработала в нем немалую выдержку, но в последнее время Тарбэдж с неудовольствием замечал, что, старея, становится раздражительным. Впрочем, и начальнику патруля не следовало говорить с ним таким тоном. Тарбэдж, хотя он скорее полицейский, чем военный, носит на каждом погоне корону и звезду, и его чин соответствует званию подполковника. Он сдержанно сказал:
Читать дальше