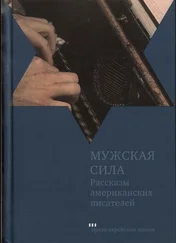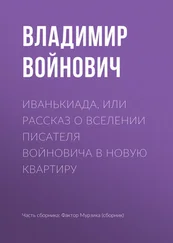— Ну-ну, — говорят, — может быть, вам повезет. А мы тут уже час перед домом околачиваемся, и он до сих пор не соизволил выйти.
Я подумал, что, пожалуй, тоже не вышел бы, пока эти здесь толкутся, ведь с ними только свяжись: сегодня они тебя до небес вознесут, а завтра затопчут — и под ноги не глянут.
Один из них говорит:
— Вы что, его друг?
— Да нет, — говорю, — просто болельщик, — и тогда они перестали меня замечать и снова принялись толковать между собой. Некоторые говорили, что он это сделал, а другие говорили, что, может, и сделал, но его будет трудно припереть к стенке; и никто — ни один из них — за него не вступился, а ведь вся эта свора о нем писала — и тем кормилась — многие годы. Здесь мне было еще гадостней, чем в «Короне», я прождал минут сорок, и я им сказал: «Зато я думаю, что он не виноват», — и пошел от них прочь, и ни разу не оглянулся. При них у нас все равно не получилось бы разговора.
Но теперь я узнал, где он живет, и мог вернуться, когда они уйдут.
Я плохо спал в эту ночь, а встал раньше всех, чтоб прочитать газету. Там писали, что Томми все отрицает и что днем соберется правление клуба, и на правлении будет разбираться это дело.
На заводе не говорили ни о чем другом — и у станков, и когда был перерыв для завтрака, и во время обеда в заводской столовой. Несколько парней были на его стороне, да не несколько, а всего-то один или два, а остальные говорили, что нет дыма без огня и что газеты не решились бы этого напечатать, если бы все уже не было доказано. Кое-кто из них видел ту игру в Ньюкасле, и они говорили, что он вообще не играл — только ползал, мол, по полю, как сонная муха. «Так, может, — говорю, — у него была травма», — а они: «У кого, у него была травма? Ничего у него не было — ни травмы, ни совести. Клуб, — говорят, — не должен допускать его к играм, все равно федерация их всех дисквалифицирует — пожизненно, вот увидишь», — и пошли и пошли: мы, мол, про «Юнайтед» и знать не хотим, да пусть они хоть Кубок страны завоюют, мы, дескать, будем болеть за «Арсенал» или за «Альбион», а то и вовсе за регбистов.
Стариков проняло куда сильней, чем молодых, — они говорили, что футбол вырождается, что игроки теперь думают о деньгах, а не о футболе. Старики вспоминали довоенных игроков — Дуга Блэка, Джеки Уэстона, всю эту компанию, и они говорили: «Докатились, голубчики! До войны никто о таком и не слыхивал, а ведь те получали вполовину меньше нынешних. Нынешним, им всем самое место за воротами — мячи подавать, а не играть на поле. Люди платят деньги, чтоб посмотреть игру: тратятся на поезд, едут в другой город, а эти сопляки и бегать-то не желают». В общем, завели свою обычную волынку — мол, футболисты из нашей теперешней команды и в подметки не годятся тем, довоенным, мол, сейчас и футбол — не футбол, а позорище, и игроки — не игроки: играть они не умеют, а учиться не хотят, — и тут мне стало тошно — мне всегда их тошно слушать, — и я говорю: «Уж эти довоенные! Их, может, и во вторую лигу сейчас не взяли бы, да до войны и футбола настоящего не было, вы бы еще керогаз с ракетой сравнили!»
Моя смена кончалась в пять часов вечера, а в шесть я уже был дома и включил радио. По радио сказали, что на заседании правления Коллинсона отстранили от участия в играх. Но про трех остальных, дескать, к соглашению не пришли. А назавтра в утренних газетах написали, что правление не могло не отстранить Коллинсона, раз он сам признался, что участвовал в сговоре, но трое других все отрицают, и про них, мол, пока ничего не решили. Я немного приободрился, а отец говорит: «Еще бы они решили во время розыгрыша кубка! Ведь у них в субботу игра с болтонцами. Станут они отстранять этого позорника Грейнджа перед таким матчем — ищи дураков! Да они его до конца сезона не отстранят, а потом — у них верный расчет — все забудется, федерация-то и промолчит. Попомни мои слова…»
— А ты, — говорю, — во всем только плохое видишь.
В тот день после работы я опять к нему поехал, и около его дома никого не было. Я позвонил, и к двери подошла его жена — я узнал ее по фотографиям — и выглянула в щелочку.
— Вам кого? — говорит.
Я ее спрашиваю:
— Томми Грейндж дома?
— Не знаю, — отвечает. — А вы, собственно, кто?
— Передайте ему, — говорю, — что пришел его друг, один из его самых верных болельщиков.
Она мне говорит:
— Он никого не хочет видеть, — и захлопнула дверь перед самым моим носом.
Тогда я прокрался по садовой тропинке, вышел на газон и глянул в окна гостиной, но шторы были задернуты, и я понял, что он дома, потому что к тому времени еще не стемнело. Я слонялся вокруг дома до позднего вечера, на улицах зажглись фонари, но он так и не появился.
Читать дальше