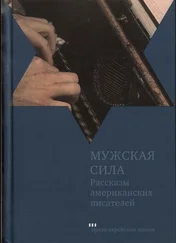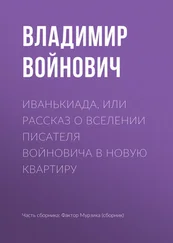Его дед, который шестьдесят лет назад воевал с бурами на этих же изрезанных горными хребтами равнинах, ездил верхом, а его личный багаж находился в обозе, где его тащило какое-нибудь вьючное животное. Теперь же Тим плелся с солдатами в пыли да еще должен был, не жалуясь, мириться с тем, что ему всего достается меньше, чем им: меньше еды — солдаты ели первыми, а лейтенант доедал что оставалось, — меньше сна, меньше отдыха. Солдаты терпеть его не могли, и с этим тоже нужно было мириться, утешаясь отчасти сознанием, что их неприязнь носит сугубо безличный характер и проистекает из одной лишь классовой вражды — зловещего раскола, который каждодневно ширился, зияя на теле Англии, как огромная гангренозная рана. От начальства Баркер помощи не получал, да и хвалили его редко; для стоявших выше он служил как бы буфером, который ограждал их от расположенного еще ниже классового врага, или козлом отпущения, когда оказывались неосуществимыми их сплошь и рядом вздорные приказы.
Тим Баркер был не так уж умен — иначе выбрал бы другую профессию, — но он понимал, что тут что-то не так, и у него мелькала временами смутная догадка, которую он не сумел бы сформулировать в словах, что, наверное, причина всему — неспособность или нежелание большей части его соотечественников признать происшедшие за последние пятнадцать лет социальные изменения и изменить, сообразуясь с ними, как свои взгляды, так и прежде всего, священные институты Британии. Ибо, невзирая на раздутую вокруг реформ шумиху, ни разу не было сделано серьезных попыток демократизировать армию, уж это-то с каждым днем становилось очевидней, равно как и то, что помочь делу можно было, лишь основательно ущемив старших по возрасту и по чину офицеров, которые начали службу еще в те времена, когда больше почитались традиции. То, что Баркер и остальные младшие офицеры утратили значительную часть своих привилегий, не увеличило, как то предполагалось и задумывалось, их популярности среди солдат; наоборот, потеря этих привилегий еще больше роняла их престиж. Маконахи не только не проникся к лейтенанту благодарностью за то, что тот тащил его винтовку, он просто презирал его. Как все простые люди, нюхом чуя, когда его водят за нос, он сразу же определил, что это липовое товарищество.
Родители Тима поженились поздно, и воспитанный пожилыми людьми мальчик с детства принял как должное критерии и ценности английского правящего класса, ставящего превыше всего благо и авторитет родовитых, зажиточных и немолодых, — заповедь, сохранившаяся в неприкосновенности со времен могущества Британии в начале века и особенно свято чтимая в высших сферах армии. И все же Тим, взрослея, не мог иногда не задумываться, а способна ли нация, в характере которой преобладают неприятные стариковские черты — злобный снобизм, лицемерие, склеротическая забота о сохранении своего померкшего ореола, способна ли такая нация вызвать поклонение своей молодежи и уважение соседей. Обычно он, ловя себя на таких мыслях, спешил выбросить их из головы: невзирая на куцее образование — единственным учебным заведением, которое он посещал, была закрытая школа для мальчиков, одна из самых старых и никчемных, — Тим обладал природной проницательностью, инстинктивным здравым смыслом, подсказывавшим ему, что тот, у кого завелись крамольные мысли, рано или поздно их выскажет. Да и неуютно ему было с этими мыслями, среда и воспитание понуждали его их опровергать или, во всяком случае, гнать их от себя, пока возможно.
Но сегодня он дал себе волю, хотя и чувствовал, что это неблагоразумно. Там, где дело касалось его интересов, Тим не был дураком, и его начинал тревожить пока еще не сформулированный им отчетливо вопрос, а не уйти ли ему из армии, пока не поздно. То и дело ему вспоминались слова полицейского офицера: «Вспыхнет такой мятеж, какого здесь давно не видали. Тогда в вас будут швырять камнями, а вам и отстреливаться нельзя будет». Мистер Тарбэдж, сам того не зная, стращал человека, которому уже пришлось побывать в таком положении и до смерти не хотелось оказаться в нем вторично.
Полгода назад на Кипре Тим с проволочным щитом в руках чуть ли не целую ночь простоял под градом камней и насмешек, ограждая от толпы большой дом с примыкавшим к нему обширным садом. В этом доме генерал, начальник оккупационной группы войск, человек уже немолодой, но отличавшийся чисто мальчишеской жестокостью и самодовольством незрелого юнца, угощал ужином приезжего посланника с сопровождающими его лицами. Тим получил указание стрелять лишь в том случае, если министру или генералу будет грозить опасность, однако понимал, что непременно попадет под трибунал, если откроет пальбу даже и в этом, крайнем случае. Толпа, может быть, и разошлась бы, если бы генерал велел погасить свет и задернуть шторы, но длинные ряды ярко освещенных окон, из которых лилась бравурная музыка, исполняемая полковым оркестром, были открытым вызовом, и дерзость ненавистных угнетателей все сильнее разжигала ярость толпы. Видя, что камни то и дело попадают в солдат, Тим оставил за себя Ролта и побежал к дому требовать, чтобы там, по крайней мере, затворили окна. Генерала он, конечно, так и не увидел; запыхавшийся, грязный, с испачканным кровью лицом, он минут пятнадцать простоял в прихожей, пока к нему не вышел адъютант и не сообщил, что у генерала нет ни малейшего намерения закрывать окна. Генерал славился своей неустрашимостью, его ничуть не испугала толпа каких-то греков. Ночь была душная, а генерал устраивал прием для очень важного гостя, влиятельного министра. Самая мысль о том, чтобы закрыть окна, показалась ему возмутительной. Тиму велели вернуться и выполнять свои обязанности, не забывая при этом, что, хотя генерал нисколько не боится толпы и даже ее презирает, он все же не хочет напрасного кровопролития и разрешает открыть огонь, только если мятежники подойдут слишком близко к дверям. С тех пор прошло уже полгода, но воспоминание осталось свежим, осталось навсегда, так же как шрам на лбу от удара камнем. Баркер сохранил о Кипре и другие столь же неизгладимые воспоминания — воспоминания о том, как израненных штыками киприотов заталкивали в клетки из колючей проволоки, как громко вскрикивали и падали студенты и студентки, когда их прогоняли сквозь строй вооруженных полицейскими дубинками и винтовочными ремнями солдат, и — самое страшное из воспоминаний — об одиноко притулившейся в горах маленькой, неказистой вилле — общеармейском следственном центре, куда он один раз доставил нескольких подозреваемых.
Читать дальше