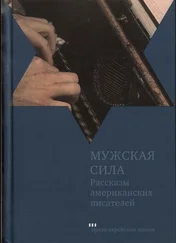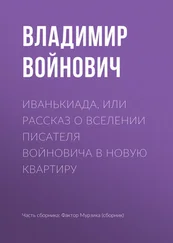— Да, голос тот же, — говорю я. — Только не такой певучий, как раньше.
— Слышал, чего она сказала? — говорит Джимми. — Что такие порядочные ребята, как мы, ей больше не встречались в Лондоне.
— Тогда, стало быть, ей встречались самые подонки, — говорю я.
— Почем знать, — говорит Джимми. — А вдруг мы порядочные, просто сами не сознаем.
— Вообще-то верно, — говорю я. — Ты вспомни, позволяли мы себе с ней что-нибудь лишнее?
— Рука не поднималась, когда она из нашей старой конуры устроила родной дом, — сказал Джимми. — Пошли в «Стандарт», выпьем за ее здоровье.
За кружкой эля Джимми говорит:
— Эх и пни мы были с тобой. Знать бы наперед, что она пойдет по рукам…
— Читаешь мои мысли, — говорю я. — По рукам мы и сами могли бы ее пустить.
Сестра Тома
(Перевод А. Кистяковского)
Однажды дождливым будничным утром, когда мне было пятнадцать лет, я надел свой старенький выходной костюм и отправился в Болтон, на улицу Монкриф, чтоб поступить матросом в военный флот. Уходя, я поцеловал плачущую маму, но ее слезы и меня ужасно расстроили, и вот я шагал в толпе рабочих, спешивших попасть на текстильные фабрики до гудка первой смены в семь сорок пять, и никак не мог проглотить застрявший в горле ком.
Когда я пришел на вербовочный пункт, седой офицер в синей шинели выписал мне бесплатный билет до Манчестера, где работала военная медицинская комиссия. Всего нас собралось там девять человек, и остальные парни были старше меня. Но семерых врачи сразу забраковали, и они ушли, и нас осталось двое. Я думал, что комиссия меня пропустила, но один врач все слушал мое сердце. Я здорово нервничал, и оно колотилось очень сильно. Наконец врач посмотрел на меня и сказал:
— Приходи, сынок, через год, когда станешь поспокойней.
Меня забраковали, и мне было стыдно. Что я скажу теперь своим друзьям? Я погулял по городу и вскоре проголодался, но не решился куда-нибудь зайти и поесть: до этого я был в кафе только раз — на поминках. И тогда, почувствовав себя совсем несчастным, я уехал домой.
И работы у меня теперь тоже не было: перед отъездом я ушел из прядильной мастерской — думал, удастся поступить во флот. Найти работу в то время было трудно: текстильные фабрики сокращали производство. Но один наш парень — его звали Томми Чидл — надоумил меня, к кому обратиться.
— Поезжай к Хилтону, — сказал он мне, — на фабрику по химической обработке пряжи. Она черт те где, но работа там есть: этот Хилтон вечно кого-нибудь увольняет. Если ты им понравишься, они тебя возьмут и заставят вкалывать и днем и ночью. Только не говори им, что ты католик: Хилтон методист и их местный проповедник.
Я поехал туда и не сказал, что я католик — ничего я им не сказал, — и они меня взяли. Работа на фабрике была сменная, и первая смена заступала в шесть, и назавтра я должен был выйти в утро. Я чувствовал себя взволнованным и счастливым. Никто из моих знакомых там не работал, и мне казалось, что я начинаю новую жизнь.
На другой день я встал в полпятого и в шестом часу уже выходил из дому — мама поцеловала меня на прощание и немного всплакнула. Я люблю темные предрассветные улицы. В это время прохожих почти что нет, а главное, еще спят девчонки-текстильщицы, а то, бывает, ты идешь себе спокойно на работу, а они вдруг прямо в лицо тебе хихикают — сущее наказание с этими девчонками!
В огромном красильно-пропиточном цехе с высоким, теряющимся в пелене пара потолком и всегда чуть сыроватым бетонным полом стояло восемь роликовых машин, в которые загружают очищенную пряжу, и она, пропитавшись раствором каустика, автоматически, на роликах, отжимается и вытягивается, превращаясь в мерсеризованную, или попросту — фильдекосовую.
Мне надо было выучиться управлять такой машиной, распутывать мотки высушенной пряжи, аккуратно загружать их в особый ковш, подающий подготовленные мотки на машину, и снимать с роликов мерсеризованную пряжу. Мастер цеха, Элберт, по кличке Нуда, был спокойным человеком лет под пятьдесят, с доброй улыбкой и синими глазами.
Наши ребята всегда над ним потешались. Не то чтобы в глаза, но так, что он слышал. Они частенько заводили похабные разговоры — просто чтоб посмотреть, как он качает головой. Во время перерыва — единственного за смену, он длился с половины девятого до девяти — мы с облегчением снимали рабочие ботинки и давали ногам немного отдохнуть, потому что у большинства ребят-машинистов была разъедена кожа на пальцах: капли каустика просачивались даже сквозь ботинки. И вот мы обрывали полы халатов и оборачивали ноги, чтоб уберечь их от каустика. Поэтому к девяти, когда кончался перерыв, мы не успевали управиться с завтраком. В четверть десятого появлялся Элберт, вынимал часы, смотрел на них и спрашивал:
Читать дальше