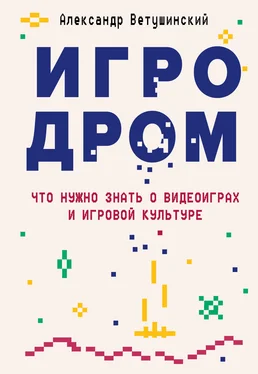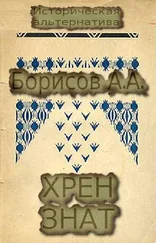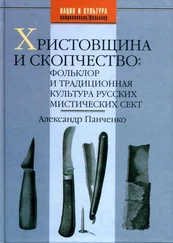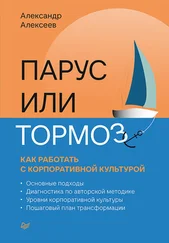Конечно, это ангажированное высказывание. Фраска утверждает, что сама антитеррористическая кампания США и является на деле террористической. Но дело не в правоте или ошибочности его взглядов. Дело в том, что рассмотренная игра – это действительно полноценное авторское высказывание, которое достигается в первую очередь за счет тщательной проработки игрового процесса. Ведь главная особенность здесь – что именно игрок попробовал разобраться с терроризмом и в ходе собственных попыток понял, что так его не победить.
Однако после таких игр, как The Path (2009) или The Stanley Parable (2013), игра Фраски уже не кажется столь необычной и шокирующей. К концу 2000-х годов неотъемлемой частью видеоигровой культуры стало то, что поначалу было лишь академическим экспериментом. Кстати, Фраска – не единственный представитель академического знания, сыгравший такую роль. Помимо него особого упоминания заслуживают, например, Майкл Матеас – один из авторов нашумевшей Façade (2005), в которой была реализована поистине колоссальная свобода выбора, и Дэн Пинчбек, впоследствии создавший студию The Chinese Room и под руководством которого в 2008 году была выпущена первая версия Dear Esther – одна из игр-родоначальниц жанра симулятора ходьбы.
Как и в случае с людологией и MDA -фреймворком, нарративный поворот в game studies также совпал с поиском новых способов осмысления видеоигр в профессиональном сообществе, в котором как раз и фиксировались произошедшие изменения. И хотя MDA -подход уже не раз переосмыслялся и дополнялся, в данном случае я рассмотрю иную модель, получившую название SSM . Ее в 2017 году предложил Томас Грип, один из руководителей студии Frictional Games ( Penumbra, Amnesia, SOMA ).
SSM расшифровывается как Система ( System ), История ( Story ) и Ментальная модель ( Mental Model ). То есть, по мнению Грипа, видеоигры состоят именно из этих трех типов сущностей. Причем История и Система – это два принципиально равнозначных аспекта видеоигр (несложно заметить, насколько это контрастирует с людологическим MDA ). Система состоит из двух компонентов – уже знакомых нам механик и динамик, где динамики – это системы механик. То же и с Историей. Она подразделяется на мизансцену и драму: мизансцена – это элементарные компоненты истории (персонажи, локации, предметы), а драма – система этих компонентов (то есть то, как эти персонажи, локации и предметы связаны друг с другом в игре). То есть мизансцена – это аналог механик, а драма – аналог динамик. И действительно, по-настоящему удачная история также достигается за счет правильной балансировки базовых ее компонентов. Вместе Система и История порождают и выражают третий тип сущностей – Ментальную модель. Здесь также речь идет о двух компонентах: аффордансах и схемах. Аффордансы – это совокупность ожиданий, предубеждений и стереотипов, с которыми в игру приходит игрок; то есть это все то, с чем должен считаться разработчик, когда продумывает специфику механик и мизансцены. Схемы – это то, как в итоге должен скорректировать свои ожидания игрок при взаимодействии с игрой, то есть это ментальный ответ игрока на динамики и драму. Иными словами, игрок, увидев монстра в игре, скорее всего, предположит, что этот монстр опасен (это как раз касается аффордансов). Однако если этот монстр сам будет пугаться игрока, то игрок будет вынужден иначе схематизировать игровое пространство, подстраивая свои ожидания под игровые условности, что как раз касается схемы.
Конечно, я не хочу сказать, что SSM лучше, чем MDA . Просто нужно понимать, что MDA гораздо лучше подходит для анализа и описания классических игр, для которых история не столь значима, а вот SSM – для анализа игр современных. Просто различные игры диктуют различные способы их описания. Но, опять-таки, нарративный поворот, ровным счетом как и процедурная риторика с людогерменевтикой, – это не возврат к нарратологии, но попытка разобраться со смысловым измерением самих игровых механик и систем. Игровые правила тоже говорят, они также не свободны от содержания и смысла. И если создатель игры этого не понимает, то он рискует попасть в ловушку так называемого людонарративного диссонанса, когда игровые условности и игровой нарратив окажутся противоречащими друг другу.
Глава третья
Критическая теория видеоигр
В принципе, вполне можно сказать, что в истории game studies было всего два этапа: людологический и постлюдологический. Если на первом доминировали обсуждения игровых форм и структур, то на втором стали обсуждаться самые разные вопросы, среди которых особое место занял принципиальный для видеоигр способ рассказывания историй. Вместе с тем на втором этапе случилось событие, настолько колоссальное по своей значимости, что в данном случае я рассмотрю его как отдельный – третий – этап.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу