– Зачем ты мог мне понадобиться? – спросил Мамулян. В его голосе прозвучало внезапное презрение. – Чего ты стоишь?
Уайтхед на мгновение задержался с ответом, затем начал выплескивать слова, не думая о последствиях.
– Чтобы жить для тебя, потому что ты был слишком бескровен, чтобы сделать это самостоятельно! Вот почему ты меня подобрал. Чтобы попробовать все через меня. Женщины, власть – все это.
– Нет…
– Ты выглядишь больным, Мамулян.
Он назвал Европейца по имени. Видали? Боже, как это легко. Он назвал ублюдка по имени и не отвел взгляд, когда его глаза сверкнули, потому что говорил правду, не так ли? Они оба это знали. Мамулян побледнел, почти выцвел. Утратил волю к жизни. Внезапно Уайтхед понял, что может выиграть противостояние, если будет достаточно умен.
– Не пытайся драться, – сказал Мамулян. – Я возьму то, что мне причитается.
– Что именно?
– Тебя. Твою смерть. Твою душу, за неимением лучшего слова.
– Ты получил все, что я был должен тебе, и даже больше, много лет назад.
– Мы так не договаривались, Пилигрим.
– Мы все заключаем сделки, а потом меняем правила.
– Это не игра.
– Существует только одна игра. Ты сам меня этому научил. Если я одержу в ней победу… остальное не имеет значения.
– Я получу то, что принадлежит мне, – сказал Мамулян со спокойной решимостью. – Это предрешено.
– Почему бы просто не убить меня?
– Ты знаешь меня, Джозеф. Я хочу, чтобы все закончилось чисто. Даю тебе время привести в порядок свои дела: закрыть бухгалтерские книги, упорядочить счета, вернуть землю тем, у кого ты ее украл.
– Я и не знал, что ты у нас коммунист.
– Я пришел не обсуждать политику, а сообщить свои условия.
Значит, подумал Уайтхед, до дня казни еще далеко. Он быстро выбросил из головы все мысли о побеге, опасаясь, что Европеец их вынюхает. Мамулян сунул изуродованную руку в карман пиджака и вытащил большой свернутый конверт.
– Ты распорядишься своим имуществом в строгом соответствии с этими указаниями.
– Как я понимаю, все отойдет твоим друзьям.
– У меня нет друзей.
– Ну и ладно. – Уайтхед пожал плечами. – Рад от него избавиться.
– Разве я не предупреждал тебя, что это будет обременительно?
– Я все отдам. Стану святым, если хочешь. Тогда ты удовлетворишься?
– Главное, чтобы ты умер, пилигрим, – сказал Европеец.
– Нет.
– Ты и я, мы оба.
– Я умру, когда настанет мой час, – сказал Уайтхед, – а не твой.
– Ты не захочешь уйти в одиночку.
Призраки за спиной Европейца начали волноваться. Пар забурлил из-за них.
– Я никуда не уйду, – сказал Уайтхед. Ему показалось, что в колыхании пара мелькают лица. Возможно, неповиновение было неразумным шагом, решил он. – Какой от этого вред?.. – пробормотал он и привстал, чтобы отогнать то, что содержал пар. Свет в сауне тускнел. Глаза Мамуляна светились в сгущающейся тьме, из его горла тоже лился свет, окрашивая воздух. Призраки благодаря ему обретали плоть, становясь более осязаемыми с каждой секундой.
– Остановись, – взмолился Уайтхед, но надежда была напрасной.
Сауна исчезла. Пар выпускал своих пассажиров. Уайтхед чувствовал на себе их колючие взгляды. Только теперь он почувствовал себя голым. Он наклонился за полотенцем, а когда выпрямился, Мамулян исчез. Он прижал полотенце к паху. Чувствовал, как призраки в темноте ухмыляются над его обвислыми сиськами, сморщенными гениталиями, неприкрытой нелепостью старой плоти. Они знали его в те исключительные времена, когда грудь была широка, мужское достоинство – дерзко, а плоть внушительна, будь то обнаженная или одетая.
– Мамулян… – пробормотал он, надеясь, что Европеец все же сумеет остановить это бедствие, пока оно не вышло из-под контроля. Но никто не откликнулся на его призыв.
Он неуверенно шагнул по скользким плиткам к двери. Если Европеец ушел, он мог просто выйти отсюда, найти Штрауса и комнату, где можно спрятаться. Но призраки еще не закончили с ним. Пар, потемневший до лилового цвета, немного приподнялся, и в его глубине что-то замерцало. Сначала он не мог понять, что это: неясная белизна, трепетание, словно кружащиеся снежинки.
Потом, откуда ни возьмись, подул ветерок. Он принадлежал прошлому и пах им. Пепел и кирпичная пыль; грязь на телах, немытых десятилетиями; горящие волосы, гнев. Но между ними вплетался еще один запах, и, когда Уайтхед вдохнул его, значение этого мерцающего воздуха стало ясным. Он оставил полотенце и закрыл глаза, но слезы и мольбы все прибывали и прибывали.
Читать дальше
![Клайв Баркер Проклятая игра [litres] обложка книги](/books/436081/klajv-barker-proklyataya-igra-litres-cover.webp)

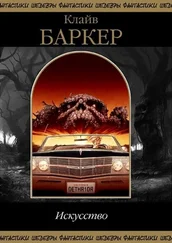

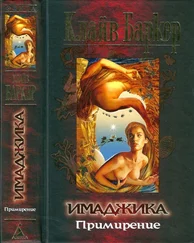

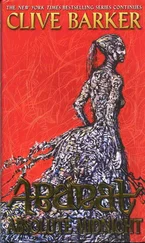
![Клайв Баркер - Книги крови. Запретное [сборник litres]](/books/389400/klajv-barker-knigi-krovi-zapretnoe-sbornik-litre-thumb.webp)
![Клайв Баркер - Книги крови. I–III [сборник litres]](/books/395030/klajv-barker-knigi-krovi-i-iii-sbornik-litres-thumb.webp)
![Клайв Баркер - Алые песнопения [litres с оптимизированной обложкой]](/books/414014/klajv-barker-alye-pesnopeniya-litres-s-optimizirov-thumb.webp)
![Клайв Баркер - Алые песнопения [litres]](/books/414077/klajv-barker-alye-pesnopeniya-litres-thumb.webp)
![Клайв Баркер - Сияние во тьме [сборник litres]](/books/432001/klajv-barker-siyanie-vo-tme-sbornik-litres-thumb.webp)