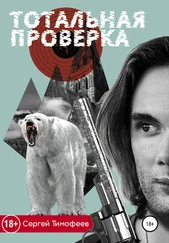Увидали гридни со стены, — тяжко Василию приходится, того и гляди не сдюжит, — позабыли про строгий наказ княжеский, распахнули ворота — и на подмогу. Завязалась возле стен сеча лютая. Всколыхнулось море степное. У одних ворот пластаются, гремят о железо железом, грудь в грудь сходятся, до остервенения, когда врага разве что зубами достать можно, до того тесно, у других… Поползли великаны деревянные, особой выделки кожами прикрытые, чтоб огонь их не брал. Тараны поползли, башни громадные. Заметались всадники под заборолами, стоит мелькнуть где защитнику, осыпают стрелами. Отвечают им со стен, не отсиживаются. Там, глянешь, один всадник с лошади сверзился, там — другого стрелка настигла, а в ином месте, по другую сторону, на стене, охнул кто-то коротко, да и поник, будто былинка под ветром…
Потом уж и огонь в город метать начали. Запалят паклю смоляную, на стрелу — и мечут. Не чтоб пожар устроить, — от сгоревшего города какой прок? — попугать пока что. Не пепелищем любоваться шли, за добычей. Большую часть сразу водой заливают, однако кое-где недосмотрели, занялось…
У ворот же, где смертью море людское кипит, вроде как одолевать киевляне начали. Подаются степняки, не держат ударов молодецких, такое и прежде не раз бывало. Пятятся, — шаг в шаг, — ан пятятся. Кажется, еще поднапереть, и погонят врага до самого их моря дальнего. Где там в пылу битвы по сторонам смотреть!.. Где там помнить излюбленный прием кочевнический — показать притворно спину, увлечь погоней, а там и навалиться всею силою, по сторонам в засаде укрытою. И тут бы так случилось; отрезали бы от ворот, да перебили, кабы не залешане со Сбродовичами. Сдержали ораву, не дали от ворот отсечь. Стояли, пока гридни вперемешку с горожанами обратно в город втягивались. Сами же не успели. Вот ведь как бывает: разная о них в народе молва ходила, и что увальни, и что об себе одних думают, и что богатыри-то они только по названию. Забылось говоренное. Иными глазами люди на них глянули, иные слова найдут, как начнут песни складываться про нашествие Калина, если только будет, кому складывать…
…Стоит князь в палатах своих, возле окна, вздыхает тяжко. Как же случилось, что богатыри его верные, слову его покорные, в один день полегли? С кем теперь город оборонять? Кинул взгляд на скамью богатырскую, мелькнуло перед глазами недавнее прошлое, так явственно, будто и не уходило вовсе. Всех увидел, всех припомнил. Услышал тихое, а может сам произнес: «Илья Иванович…» И шорох какой-то.
Глянул — стоит в уголку видение — не видение, фигура женская. В темное укутана, ровно скорбит по ком.
— Кто ты, как вошла? Ответствуй не медля! — грозно вопросил князь.
— Дочь твоя, Мстислава… — прошелестело в ответ.
— Как смела без зова явиться?
— Услышала ненароком, богатырей ты поминал, сетовал, что некому за Киев постоять…
Неужто думы тяжкие словами невзначай вырвались?
— …Илья Иванович…
— Так ты что же, укорять меня вздумала? За дело прошлое, за то, что смутьяна в порубе уморил?
Бросилась кровь в голову князю, шагнул к дочери. Еще мгновение…
— Нет, батюшка, не уморил… Жив Илья Иванович… Живой он…
Упала занесенная рука, ровно отнялась.
— Жив?!! Живой… Как можно…
— Я во всем виновная, батюшка. Я ключ сделала, я в темницу наведывалась… Девки мои поили, кормили, обихаживали. Тайно все делали, так, что не прознал никто…
Еще что-то бормочет, а у князя сумятица в голове. Лезут мысли одна на другую, и никак ему с ними не совладать. С одной стороны — вот она, помощь ожидаемая; услышит враг, что Илья в Киеве, — одно это поприглушит спесь ханскую. А коли продержаться, дойдет весть до других богатырей, быстрее быстрого на выручку пожалуют. С другой стороны… Обида великая богатырю князем учинена, как подступиться к нему — не знает. И ведь не пошлешь никого уламывать, самому идти придется. Не иначе — в ножки кляняться. Это князю-то! Так получается, что куда ни кинь, а все клин. То ли Илье кланяться, то ли Калину, то ли голову сложить под Киевом, отдав город на разграбление и поругание…
Потом решился — как в омут с головой. Мимо дочери прошел, даже не глянул на нее. В поруб направился. У двери в подземелье, правду сказать, позамешкался. Один раз в жизни своей испугался, — давно это приключилось, — с тех пор никому этого самого испытанного страха не прощал, а тут… Не то, чтобы испугался, просто мелькнуло что-то, на чувство вины похожее, мелькнуло — и исчезло. Толкнул дверь, вошел, пригнувшись; не по его росту притолока.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу








![Сергей Кольцов - Пылающие города [Author.Today]](/books/408539/sergej-kolcov-pylayuchie-goroda-author-today-thumb.webp)

![Сергей Тимофеев - Как Из Да́леча, Дале́ча, Из Чиста́ Поля... [CИ]](/books/428372/sergej-timofeev-kak-iz-da-lecha-dale-cha-iz-chista-thumb.webp)