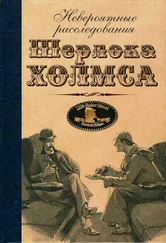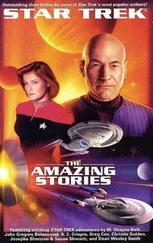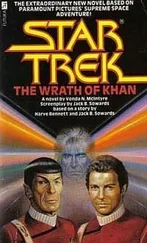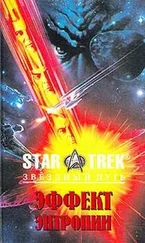— Она уплыла. Возможно, я больше ее не увижу.
Она заплакала, и только прикосновение руки Люсьена хоть немного смогло ее утешить.
Далеко-далеко морскую гладь нарушил едва заметный всплеск, потом другой, потом третий, и еще, и еще… Внезапно испугавшись, Мари-Жозеф задрожала.
В фонтане брызг на поверхность всплыл тот самый смертельно усталый матрос: он бился, брыкался и выкрикивал что-то бессвязное. Его товарищи всплыли вслед за ним. Гребцы схватились за пики и весла, опасаясь появления акул.
— Во славу его величества!
Ныряльщики воздели руки. Золото и драгоценности, которые они сжимали в ладонях, снова увлекли их под воду. Они с усилием доплыли до шлюпки и стали высыпать сокровища к ногам короля.
Мари-Жозеф и Люсьен возвращались в Версаль в закрытом экипаже, в самом конце длинного каравана, груженного сокровищами. Его величество ехал в открытой коляске. Ацтекское золото покрывало его словно доспехи, украшало конскую упряжь и даже спицы колес. Повозки с сокровищами сопровождала сотня мушкетеров. Подданные выстраивались вдоль дороги, кричали «ура!» своему монарху и с удивлением рассматривали караван.
Мари-Жозеф выглянула из-за тяжелых занавесок. Сквозь щель немедля проникла дорожная пыль, донеслись крики толпы.
— Он должен признать, что был не прав, — сказала Мари-Жозеф, — это мы были правы!
— Нет, — возразил Люсьен. — Ему не важно, кто был прав, а кто нет. Важно лишь, что мы ему не повиновались.
— Но это какой-то абсурд.
— Он никогда не позволит себе простить нас, — с театральным вздохом произнес Люсьен. — Я смиренно приму всю тяжесть монаршего гнева… Коль скоро он не пошлет нас на галеры и не отправит в море до конца наших дней.
Мари-Жозеф сумела улыбнуться в ответ. Люсьен повернул рукоять своей шпаги-трости и вынул сломанный клинок.
— Он недурно мне послужил.
— И Шерзад. И мне.
Он вложил шпагу в ножны и закрепил рукоять. В полумраке экипажа взгляд его ясных светло-серых глаз касался Мари-Жозеф столь же нежно, сколь его пальцы — ее ладони.
Мари-Жозеф придвинулась из угла к нему поближе. Она взяла его руку, стянула перчатку и стала одно за другим снимать кольца. Она заколебалась было, дойдя до тяжелого перстня с массивным сапфиром, но он не остановил ее. Она сняла с его пальца кольцо его величества и прижалась щекой к его ладони.
Они приникли друг к другу и поцеловались.
Мари-Жозеф откинулась назад, прижав к губам кончики пальцев, пораженная тем, что простое прикосновение может взволновать до глубины души и воспламенить страсть.
Неверно истолковав ее удивление, Люсьен печально произнес:
— Даже ваш поцелуй не в силах превратить меня в высокого, статного принца.
— А если бы превратил, я бы потребовала вернуть мне моего Люсьена!
Он рассмеялся, на сей раз без тени горечи.
Как только экипаж остановился во дворе Версаля, стража увела Люсьена, а Мари-Жозеф препроводила в ее чердачную комнату и оставила там наедине с Геркулесом. Если Ив был у себя в спальне, она все равно не могла бы поговорить с ним, ведь их разделяли две запертые двери и гардеробная.
Геркулес замяукал в надежде на сливки, хотя пол вокруг его миски был усеян мышиными желудками и хвостами — трофеями предыдущих охот.
— В тюрьме сливок не дождешься, — вздохнула Мари-Жозеф, — может быть, хоть крысы там водятся вкусные.
Ее утешала память о Шерзад, какой она видела ее в последний раз: веселой, радостно взмывающей над волнами, — и воспоминание о поцелуе Люсьена.
«Его величество непременно простит нас, — подумала она. — Он простит меня, потому что я была права и потому что любил мою мать. Он простит Ива, потому что Ив — его сын. Он простит Люсьена, потому что у него нет более преданного друга и советчика, друга, не подчинившегося ему лишь раз, да и то чтобы помочь ему».
Больше она не стала размышлять о спасении души Людовика Великого.
В замке повернули ключ; дверь распахнулась. Мари-Жозеф с бешено забившимся сердцем вскочила на ноги.
В комнату проскользнула судомойка, поставила на стол поднос с хлебом, вином и сливками и подняла голову. Это была Халида, отказавшаяся от роскошных нарядов и повязавшая голову платком.
Мари-Жозеф бросилась ей в объятия.
«Если приглядеться, ее невозможно принять за судомойку, — решила она. — Но… в Версале не принято приглядываться к судомойкам, да и вообще удостаивать их вниманием».
Они уселись рядышком на приоконный диванчик. Геркулес терся о ноги Халиды и толкал ее головой до тех пор, пока не получил сливок.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу