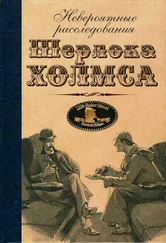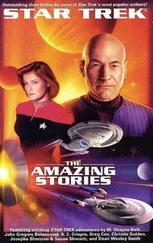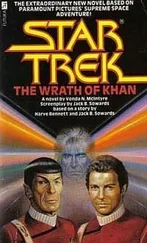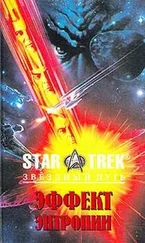— Что вы здесь делаете? — прошептала Мари-Жозеф. — Если его величество узнает, он разгневается…
— Меня это не волнует, мне все равно, — отмахнулась Халида, — ведь я вот-вот уеду из Версаля, из Парижа, из Франции. Как только стащу с себя это ужасное платье! — Она посерьезнела. — Я не в силах помочь вам, мадемуазель Мари, но не могла не повидаться с вами в последний раз.
— А я ничего не сумела для вас сделать, сестра.
Мари-Жозеф вытащила из-под стопки рисунков вольную Халиды и с грустью поглядела на пергамент:
— У меня не было ни единой свободной минуты попросить Ива ее подписать. Или заставить…
Халида взяла пергамент:
— Он ее подпишет. — Она поцеловала Мари-Жозеф. — Жаль, что я не могу вас освободить.
— Это может сделать только король. Сестра, я так боюсь за вас. Куда вы направитесь? Чем будете зарабатывать на жизнь?
— Не беспокойтесь, я богата и свободна. Я найду свое место в жизни. Я вернусь домой, в Турцию, к своей семье, и выйду за принца.
— В Турцию?! Да если вы там выйдете замуж, вас заточат в гареме вместе с другими женами…
Халида откинулась на спинку диванчика и задумчиво посмотрела на Мари-Жозеф:
— А так ли уж жизнь в Турции отличается от здешней, сестрица? Вот только многоженство турки признают и не скрывают своих жен, не лгут, что их, мол, нет, не бросают по первому же капризу…
— Но это же… Я… — Мари-Жозеф замолчала, не в силах найти ответ, боясь за сестру.
— Разве во Франции и на Мартинике не так?
Кровь отхлынула от лица Мари-Жозеф, ее объял холод, она едва не упала в обморок.
— Сестра, — запинаясь, начала было она, — неужели вы хотите сказать…
— Да, мы действительно сестры, разве вы не догадывались? Моя мать была рабыней нашего отца, он мог распоряжаться ею как собственностью, по своему усмотрению, — так он и поступал. Какое ему было дело до ее чувств? До ее страха, горя, отвращения?
Мари-Жозеф бессильно ссутулилась, уронив руки на колени, устремив взгляд в пол.
— Вы его ненавидите? Ваша мать его ненавидела? Я для вас — враг?
— Никакой ненависти я к нему не испытываю. Так было угодно судьбе. Я люблю вас, мадемуазель Мари, и сожалею о том, что мы видимся в последний раз.
— Я тоже люблю вас, мадемуазель Халида, и сожалею о том, что нам суждено навсегда расстаться.
Халида вложила в руку Мари-Жозеф маленький узелок:
— Ваши жемчуга!
— Это не вся нитка! Мы же обещали друг другу делить радость и горе. Мне пора.
Они поцеловались. Халида выскользнула за дверь и ушла навстречу неизвестной участи, которая страшила Мари-Жозеф едва ли не больше, чем ее собственная.
Предстоящая аудиенция у короля внушала Люсьену ужас. Король был слишком разгневан на него и слишком разочарован, чтобы передать его судьбу в руки стражников или тюремщиков. Люсьен пользовался всеми благами, доступными в темнице, получал чистое белье, изысканные яства и вина. С ним обходились неизменно учтиво. Спина у него болела не чаще, чем обычно.
Иными словами, у него было все, кроме свободы, общения и утешения, даваемого близостью. Он точно замер над пропастью до той минуты, когда Людовик низвергнет его в бездну, и надеялся, что не увлечет с собою Мари-Жозеф.
Мушкетеры отвели Люсьена в караульную возле личных покоев его величества, где уже томились в ожидании Ив и Мари-Жозеф.
«Как странно, — подумал Люсьен, — достаточно мне увидеть ее, как меня переполняет ликование, словно я ласкаю ее».
Он взял Мари-Жозеф за руку, и вместе они вступили в зал, где предстояло решиться их судьбе.
Королевские покои утопали в сокровищах. Они громоздились на столах и стульях, занимали почти весь пол, точно в пещере дракона. Повсюду были свалены в беспорядке золотые браслеты, пекторали и доспехи вместе с диадемами, медальонами и странными, расходящимися раструбами, цилиндрами. На паркете то там, то тут стояли нефритовые статуэтки с бесстрастными ликами. Одна из них странным образом напомнила Люсьену отца.
Его величество вглядывался в глазницы хрустального черепа. Рядом с ним сидел папа Иннокентий, совершенно равнодушный к рассыпанным вокруг сокровищам, и перебирал обычные четки. Зерна четок постукивали о деревянный ящик у него на коленях: ящик для живописных принадлежностей Мари-Жозеф. Перед ним стоял стол, на котором во множестве лежали книги и бумаги.
Король выбрал золотую пектораль, надел на шею и расправил локоны черного парика. На груди у него засияло золотое солнце.
Со всех сторон на монарха был устремлен застывший взор загадочных золотых статуй. Людовик молча рассматривал пленников.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу