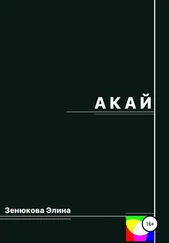— …и тут вестовой! Коня под ним убило, сам едва живой, шлем надвое… Хватаем его, затаскиваем в траншею. И вовремя! Снаряд почти прямым накрытием на редут лег. Грохоту!.. Привели в чувство. А малый говорит, мол, донесение в штаб — бриттские фрегаты уже под Ямболи. Как это по-словенски сейчас?.. Балаклава. И, стало быть, накроют нас сейчас бритты таким дождем, что небо почернеет. Тогда уже на бриттских фрегатах стояли здоровенные мортиры. А у нас что, два редута, еще один неготовый, траншеи… И смех и грех. Пропадаем. И опять вестовой, теперь уж из штаба. Приказ стоять, говорит. Бритты десант высадили, сейчас нагрянут. Держаться хоть зубами, а ни шага не сдать! Да, так говорит… А мы что… переглянулись с ребятами, подсумки перетянули, простились перед боем. Положено так. Снарядил я свою винтовочку, почистил как в последний раз. Десяток пуль, зачарованных три штуки, пороху три мерки — только и застрелиться. И тут видим — пошли. Как черти из моря лезут. Впереди боевые дроиды прут, здоровые как сарацины, земля дрожит… Грохота — как в Судный День! Наша батарея кроет, фрегаты палят, картечницы орут… Адовы трубы. А бритты все ближе, ползут как блохи. Сервы у них тогда не чета нашим были, брони по три пуда на каждом, пуля что кизяк козий отскакивает. «По ногам! — наш, значит, архонт орет, — по ногам целься! Petere! Atis! Ignus! [14] «Petere! Atis! Ignus!» — Внимание! Целься! Огонь!
». Вжарили — аж звон над полем пошел! Падают сервы, железа хоть двадцать пудов навесь, а суставы у них завсегда слабоваты. А за сервами уже и люди идут. Свистнуло, я глядь — а рука уж в кровище. Стало быть, кто-то из «Энфилда» достал. Добро еще, по эполету пришлось, а так бы плечо начисто вырвало…
Христофор еще долго и с жаром рассказывал про оборону Севастополиса, про то, как его после боя наградил лично князь Меншиков орденом Святой Анны, но никто его уже не слушал. От вина тяжелела голова, настроение сделалось подавленное, к десерту никто не прикоснулся.
Потом, уже за полночь, Марк все же отвез меня домой на спиритоцикле, уже полуспящую. Романтического прощания не получилось, я как могла вежливо поблагодарила Марка за заботу и, не обеспечив его ни кофе, ни поцелуем на прощанье, провалилась в зыбкий хмельной сон.
Когда на стук дверь отворилась и в проеме возник Буцефал, я чувствовала себя слишком измученной чтоб испугаться. Стальной великан нависал надо мной, но выглядел отнюдь не воинственно, более того, поза его, как мне показалась, выражала угодливость.
— Привет, — сказала я, заходя в дом.
— Доброго ут… ут… ут… утра, — проскрежетал Буцефал. Узнал или просто проявил вежливость? — Проходите.
Мокрый плащ, расстегнув неудобный аграф, я повесила на вешалку у потухшего камина. Дом молчал, точно все еще спали, слышно было лишь как шлепают капли по оконным стеклам.
— Отдыхай, Буц. Я буду в приемной.
Буцефал медленно кивнул.
— А… Слушай, тебе не сложно будет сделать кофе?
— Кофе, — сказал Буцефал.
— Кофе.
— Кофе.
— Чашечку кофе. Понимаешь?
— Да. Кофе, — Буцефал повернулся и прогрохотал куда-то по коридору. Но сейчас я охотней перенесла бы звук Иерихонских труб, чем смогла бы сама дотащиться до кухни и сварить кофе. Хотелось только одного — пользуясь ранним часом и отсутствием сослуживцев свернуться на мягком кожаном диванчике и подремать хотя бы неполный часик.
В приемной было сыро и зябко, окна запотели. Я села за привычное место около рациометра и прикрыла глаза. Но задремать не получилось — спустя пять минут с ужасным грохотом заявился Буцефал и, осторожно протиснувшись в дверной проем, поставил передо мной дымящуюся кружку.
В кружке был крупнолистовой крепкий чай.
— Кофе, — сказал Буц, явно гордясь собой и проделанной работой.
Как ни странно, чай помог. Стали разглаживаться постепенно мысли, почти пропала колючая боль в правом виске, исчез озноб. Жизнь вступила в ту стадию, когда на нее можно уже смотреть без отвращения. Пожалуй, если допить чай, можно найти в себе силы чтоб заглянуть на кухню и раздобыть что-то на завтрак. Скажем, парочку вчерашних, холодных, но еще сочных софрито…
Но мечтам о завтраке сбыться было не суждено. По крайней мере в этот день. Шлепая по полу мягкими домашними тапками без задников, в приемную зашел Христофор Ласкарис. После вчерашнего ужина я ожидала увидеть его в любом виде, например бледного и невыспавшегося или, напротив, пьяно хихикающего. Но Христофор явил мне еще один свой образ, прежде незнакомый. Он был трезв, зол и как-то нехорошо, до желтизны, напряжен. Вместо мундира на нем был домашний же халат, потертый и засаленный на локтях, неряшливая клочковатая седина на голове была мокрой, как и лицо. Судя по всему, солдатская привычка умываться поутру ледяной водой все еще была сильна в нем.
Читать дальше
![Алиса Акай Слуга [СИ] обложка книги](/books/24040/alisa-akaj-sluga-si-cover.webp)
![Алиса Акай - Немного хаоса [СИ]](/books/24041/alisa-akaj-nemnogo-haosa-si-thumb.webp)
![Алиса Акай - История одного ужина [СИ]](/books/24042/alisa-akaj-istoriya-odnogo-uzhina-si-thumb.webp)





![Виталий Зыков - Школа Пепла. Слуга двух господ [СИ c издательской обложкой]](/books/435145/vitalij-zykov-shkola-pepla-sluga-dvuh-gospod-si-c-thumb.webp)