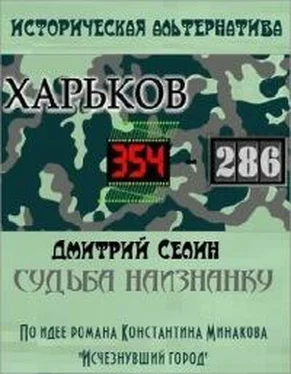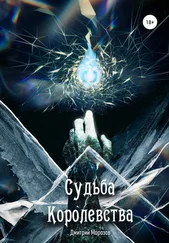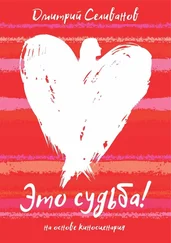На системной панели телефона замигал вызов. Мишин снял трубку и, не дожидаясь слов собеседника, быстро спросил
– Чего теперь ждать, коллега?
– Ты видел, видел! – голос Меркушева прямо-таки лил через мембрану потоки восторга, – смотри, что они сделали! Получается, слава тебе господи!.
Восторг Николая был Алексею в общем-то понятен, но такое восхищение успехами предков принять ему было сложно. Легко им идти по проторенному когда-то и кем-то пути, имея в кармане точный путеводитель. Тем более, когда рядом есть люди, всегда готовые им помочь. Такой стороны взаимоотношений не ожидал никто. Харьковчане, работавшие в тесном контакте со своими советскими коллегами, поневоле перенимали свойственный предкам энтузиазм. Только форму он приобретал немного странную, названную в закрытом обзоре для руководства республики «синдромом прогрессора». Социологи и психологи, работавшие в группах обеспечения переговорного процесса, первыми заметили, что у многих попаданцев (термин ещё не стал официальным, но активно использовался в служебных документах) появлялось навязчивое стремление помочь советским гражданам как можно быстрее освоить все достижения прошедшего прогресса. Выделялось несколько вариаций данного состояния, от безобидных разговоров «не по теме» до граничащих с государственной изменой передачей чертежей и технологических документов, коих в избытке можно было найти в закромах многочисленных заводов и НИИ. Однако одним техническим просвещением «синдром прогрессора» не исчерпывался. Кроме железок, с точки зрения некоторых харьковчан, соответствующего апгрейда требовал сам советский строй – в виде ли экономических, социальных и прочих перемен в обществе диктатуры пролетариата. Именно по этой причине третий из них – Олег Мирошниченко не только не был уволен с госслужбы, но и получил некоторые, особые полномочия, о реальном содержании которых Мишин старался даже не думать. Хватало ему своих проблем выше крыши и трудности увеличения влияния православия в Советском Союзе казались ему чем-то абстрактным и немного мифологичным. Как и сама религия, яростным адептом которой оказался Мирошниченко. «На Кавказе к богу пришёл», – туманно отвечал Олег на возникающие вопросы о его дороге в небо. Но это не мешало ему регулярно ездить на каждую воскресную службу в восстановленную пятнадцать лет назад церквушку в Октябрьском, соблюдать посты и прочие обеты. Он даже Алексея пытался сагитировать окрестится, но преодолеть атеистические аргументы не мог, хотя очень старался.
– Откуда там эти «стэлсы» взялись? – Мишин хотел понять, откуда произошла утечка.
– А, ты об этом, – немного разочарованно сказал Николай, восторг его голосе схлынул так же быстро, как и появился, – в ОКБ Москалёва несколько штук сварганили, для высотных полётов. Мы им только расчётами помогли и партию двигателей форсировали. Остальное сами сделали, с начала тридцатых экспериментируют, опыт есть
– Так чему ты так обрадовался? – несколько удивился Алексей
– Джипам, – с гордостью ответил Меркушев, – это первая промышленная партия. Пока для армии, а потом в народное хозяйство пойдёт. Для деревни «козёл» самое-то! На них даже пахать можно.
Среди множества проектов, идущих по линии внешнеторгового министерства, автомобильный выделялся Меркушевым особо. Он на всех совещаниях и в частных беседах ратовал за ускоренное развитие производства в СССР именно таких, почти легковых машин. Аргументы он для каждой стороны приводил разные. Советским товарищам разъяснял необходимость малой моторизации как мощного рычага для промышленного развития страны, коллегам же старался внушить вполне здравую в 21 веке мысль, что владение частным автотранспортом неизбежно приведёт к изменениям в советском социуме, буде способствовать более разумному поведению властей, так как подведомственный им народ приобретёт дополнительную степень свободы. Хотя бы при перемещении в пространстве страны. «Промышленную Америку создал автомобиль!» не уставал повторять Меркушев, и в чём-то он был, конечно, прав.
– Во сколько совещание? – уточнил у коллеги Алексей, переводя разговор на неприятную, но неизбежную для них обоих тему.
– В двенадцать, – ответил Николай, в спикерфоне шуршнули переворачиваемые бумаги.
– Буду, – кратко ответил Мишин и нажал кнопку отбоя.
Ни один из них не стал называть тему предстоящего начальственного сбора, для уполномоченных к данному действу это стало уже привычкой. «В доме повешенного не говорят о верёвке», точно так же властвующие над жизнью и смертью своих подчинённых избегали говорить о принятии «окончательного решения», вменённого им в самом начале правящего пути.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу