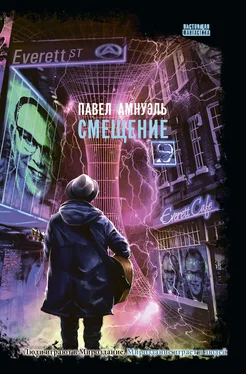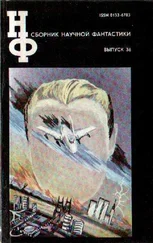Лаура вздрогнула, то ли почувствовав мысль, то ли поняв — себя, прежде всего и единственно: себя!
— Я люблю тебя, Ализа. — Слова прозвучали вслух и заполнили комнату, хотя Алан был уверен, что произнес их мысленно — только для нее, для нее одной.
— Послушайте! — повторил Эверетт раздраженно. — Не время для…
— Но с этого надо было начать! — возмутился Алан, произнеся, наконец, слова, которые — знание стало осознанием — сместили максимум распределения, как хотел он. Он один , и он — мультивидуум , человек мироздания, бесконечно сложный и непознаваемый.
— С этого все началось, — заставив себя отрешиться от прочих мыслей, спокойно сказал Алан.
— С этого? — поднял брови Эверетт. — Началось с того, что в шестьдесят первом году Бор не пожелал меня выслушать.
— Я помню, — отмахнулся Алан. — Я был подавлен равнодушием классика, но пренебрежение Бора вызвало еще и злость. Помню, да. Сделать назло. Показать всем. Мы летели с Нэнси и Лиз над Атлантикой, будто плыли по белому бездонному и безграничному облачному океану, и тогда — почему-то это произошло, когда я отвечал на невинный вопрос Нэнси «почему самолет не поднимется выше, тучи такие угнетающие?», да, ощущение было именно таким, и я сказал, что летим мы в предназначенном для нас эшелоне с предназначенной для нас крейсерской скоростью пятьсот миль в час, и понял, каким должно быть продолжение диссертации. Если миров бесконечно много и в каждом существует наблюдатель, я, то вполне вероятно — тогда мне это показалось очевидным, — что все результаты единственного эксперимента, все мои «я» должны быть запутаны друг с другом и представлять единое квантовое целое. Единую квантовую суть. Описываться единой волновой функцией.
— Да, — нетерпеливо перебил Эверетт. — Будем предаваться воспоминаниям или исправлять ошибку?
— Какую ошибку? — удивился Алан. — Не было ошибки, я все рассчитал правильно!
— Потратив на это двадцать лет!
— Разве это были плохие двадцать лет, Хью?
Алан впервые назвал по имени своего альтер эго. Будто обращался к себе, говорил с собой, себе возражал, с собой соглашался, себя называл великим и ужасным неудачником.
Эверетт не ответил.
— Тебя не удивляет, — тихо спросил Алан, — что ты больше не хочешь курить и мысль о стакане виски тебе в голову не приходит? И о Нэнси ты думаешь не так, как еще минуту назад?
— А ты… — начал Эверетт и запнулся.
— Я никогда не любил виски, — буркнул Алан, — и курил раз в жизни. Но когда ты… когда мы… Наваждение…
— И растворение друг в друге, — согласился Эверетт, поискал взглядом, куда сесть, но все места были заняты, и он опустился на пол, сел по-турецки, скрестив ноги. — Если ты понимаешь лучше меня, то скажи, в каком из миров мы сейчас? Максимум распределения сместился, но мы… Мы?
— Это есть в моих… наших расчетах, — с легким раздражением сказал Алан. Ализа прижала его ладонь к груди, он почувствовал, как бьется ее сердце, наклонился и поцеловал Ализу в щеку. Никто этого не увидел: поцелуй случился во множестве реальностей, но не в этой. Здесь и сейчас поцелуй оказался мысленным.
— Мы можем сместить максимум на прежнее место? — спросила Лаура. — Сделать так, чтобы реальность стала какой была до того, как доктор Шеффилд распечатал конверт, а доктор Кодинари достал одиннадцать листков?
— Нет, — одновременно произнесли Эверетт, Алан и, как ни странно, детектив Карпентер, ничего не понимавший в математике, но прекрасно разбиравшийся в человеческих характерах, исключая собственный.
— Господи! — воскликнул Марк. — Там же, — он махнул рукой куда-то в сторону окна, — люди сходят с ума! Мир меняется на глазах, вы видели, каким стал этот дом!
— Да, — кивнул Алан. — И нет. Да — максимум сместился, и вся бесконечная цепочка миров стала другой. И нет — никто этого не заметил, никто с ума не сошел и не сойдет, потому что смещение означает изменение волновой функции каждого альтерверса. Следовательно — пропорциональное изменение волновых функций всех подсистем, включая, конечно, людей, камней, звезд, галактик…
— Вы хотите сказать, — поразился Марк, — что никто… то есть все…
— Марк, — обернулся к сыну Эверетт, — подумай наконец своей головой.
Марк испуганно посмотрел на отца — как в детстве, когда отец возвращался после работы. Марк — ему было двенадцать или тринадцать — сидел перед телевизором на полу, курил отцовскую сигарету, пачки «Кента» лежали на каждом столе, каждом кресле, на кухне их было, початых и запечатанных, столько, что хватило бы на весь класс, а может, на всю школу. Он курил почти год, не скрываясь. Мать как-то на него накричала, он огрызнулся, потом поцеловал, и она больше не приставала. А от отца Марк не то чтобы прятался, он просто знал место и время — курил там и тогда, когда отец не мог досаждать своим присутствием. В тот день Марк сплоховал, триллер был потрясный, улетный и офигенный, он обо всем забыл, и отец вошел, когда на экране двое дуболомов мочили доходягу. Марк представлял, как врывается в кадр, бьет одного дуболома по шее, начисто вырубая, а другого — в пах, отчего тот сворачивается в трубочку и с воем уползает из кадра под крики режиссера «Стоп! Еще дубль!». Марк понял, что отец вошел в комнату, только тогда, когда Хью встал перед ним, загородив собой экран. Марк вскочил, сигарета выпала, рот наполнился горькой слюной, безумно хотелось сплюнуть, но это было так же невозможно, как смотреть в глаза отца, ледяные, спокойные. Взгляд заставил Марка поднять окурок, погасить в ближайшей пепельнице (пепельниц в квартире было ненамного меньше разбросанных всюду пачек), он поплелся в кухню, взгляд подталкивал в спину, Марк выбросил окурок в мусорную корзину и только потом обернулся.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу