Ведь если развить идеи Беляева и Кусто, то легко обнаружить, что вода — не единственная чуждая человеку среда, которую ему, безусловно, придется осваивать. А холод, например, а космос, а тяготение, а ядовитые атмосферы? Космонавты уже приучают себя по многу месяцев к невесомости. Но одно дело естественная адаптация, здесь мы еще и вправду не знаем всех возможностей нашего организма, другое — его насильственная реконструкция, отрезающая пути назад.
Конечно, фантастика не упустила возможности перебрать все мыслимые варианты. Так, в довольно давней книге американца К. Саймака «Город» было исследовано, чем грозит людям полный переход в иные существа, в неких юпитерианских скакунцов, которые, может быть, в чем-то и совершеннее людей, но они — не люди. Человеческие чувства становятся им недоступными.
Советский фантаст К. Булычев предложил уже в наши дни компромиссный способ разрешения обсуждаемых проблем. Он изобрел «биоформа»: человек временно может превратиться в рыбу, птицу или черепаху, а потом снова вернуть свой облик. Но это просто волшебная сказка.
И все же, вероятно, можно представить себе гипотетическую ситуацию, при которой человеку придется перестраивать свой организм. Если когда-нибудь осуществится мечта Циолковского о расселении человека по Вселенной и люди найдут подходящие для жизни планеты, которые, конечно, вряд ли могут быть полностью схожи с Землей, то поколение за поколением приспособится к изменившимся условиям, и этим «ихтиандрам» уже неуютно покажется на Земле. Но подобные галактические проекты фантастика 20-х годов еще не обсуждала, она лишь робко прикасалась к ним.
Как уже было сказано, А. Беляев напйсал много других произведений, но до высоты двух своих ранних романов — несмотря на все их несовершенства — он не поднимался. Удача их, в частности, заключалась в совпадении научной и человеческой сторон. Понятно, что сложности перестройки человеческого организма затронут читателя гораздо сильнее, чем какая-нибудь сугубо техническая рационализация. Впрочем, в написацном А. Беляевым мы найдем и технические фантазии, и загляд в будущее, и антирасистские памфлеты, и космические полеты, однако масштабные картины давались писателю с трудом. Но каковы бы ни были действительные недостатки его сочинений, он, конечно, не заслужил той несправедливой, зачастую уничижительной критики, которая преследовала его всю жизнь. Дело доходило до того, что в одном томе с публикацией романа Беляева помещалось «разоблачающее» его послесловие какого-то бестактного «специалиста». Но читатели любили верного рыцаря научной фантастики...
В заключение коснемся фантастической сатиры, в рамках которой были созданы значительные художественные ценности.
Прежде всего, фантастика давала возможцость построить гротесковые модели капиталистической действительности. Памфлеты на взаправдашние или вымышленные страны Запада и по сей день регулярно выходят из-под пера наших фантастов. При кажущейся легкости такой сюжетики на самом деле это очень трудный жанр.
Чтобы быть убедительным, а не прямолинейным, плакатным, надо прежде всего знать предмет нападок, а этого знания многим авторам явно не хватает. К тому же сейчас советскому читателю известны произведения прогрессивных западных фантастов, таких, как Брэдбери, Шекли, Андерсон, Каттнер — непримиримых критиков собственнического строя и его социальных институтов. Соревноваться с ними в художественном плане — дело нелегкое, но в мировоззренческом, в утверждении философии оптимизма — неизбежное. Мы имеем немало превосходных образцов политической сатиры, а свою родоначальную она ведет все оттуда, из 20-х годов. Конечно, и тогда появлялись многочисленные лобовые поделки, но были произведения и иного качества.
К 1925 году молодой писатель Борис Лавренев, участник двух революций, империалистической и гражданской войн, сражавшийся в Крыму и на Украине, работавший в Самаре и Туркестане, уже создал себе известность, прежде всего сборником рассказов «Ветер», в который входил его классический «Сорок первый». Пройдет еще немного времени — из-под пера Б. Лавренева появится на свет одна из лучших пьес советского театра — «Разлом». А сейчас он публикует «Крушение республики Итль», роман, который тоже был рожден задором, молодостью, озорством, избытком сил.
В романе излагается хроника развала «демократической» республики Итль, расположенной на одном южном берегу, которой взялась помогать — с небескорыстными целями, ясно,— островная держава Наутилия, обладательница мощного флота. Псевдонимы, употребленные в кяиге, легко разгадываются, и даже неподготовленный читатель узнает в пейзажах солнечного Итля что-то очень знакомое. Ну конечно, это же Крым, только писатель перенес в Черное море еще и бакинские нефтяные вышки. Но разве в Крыму были какие-нибудь «республики»? В таком виде, как изобразил писатель, не были, но правительство там действительно объявлялось — небезызвестный «черный» барон Врангель обосновался в Крыму в 1920 году и издавал различные законы, пытаясь демагогически заигрывать с крестьянами и даже с рабочими, одновременно проводя политику жестоких репрессий- Попытка создать «показательную ферму» не удалась, но распродажа национальных богатств, развал белой армии — все это было. По сообщению литературоведа Г. Ратмановой, автор говорил ей, что в основу его вымышленной республики были «положены» еще и «независимые» закавказские республики, созданные дашнаками, эфемерные образования, крах которых был обусловлен антинародной сущностью их продажных правителей.
Читать дальше
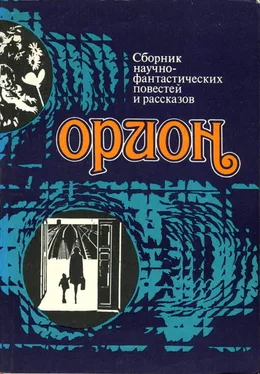

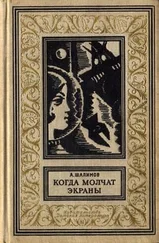
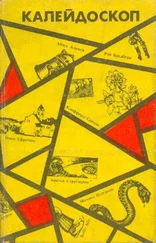


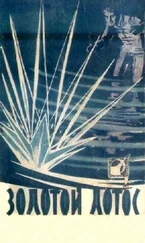
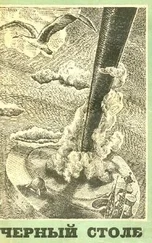
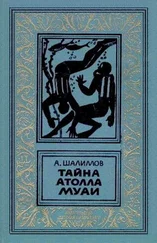


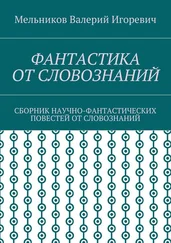
![Север Гансовский - Идет человек [Сборник научно-фантастических повестей и рассказов]](/books/427946/sever-gansovskij-idet-chelovek-sbornik-nauchno-thumb.webp)