Есть книги, которые знает каждый подросток, буквально каждый. Два названных беляевских романа принадлежат к числу этих избранников. Чем же они заслужили столь счастливую судьбу?
Обратим внимание, что до А. Беляева успехи биологии (в отличие, например, от физики) никто не ставил в центр внимания, удачных произведений на эту тему, во всяком случае, почти нет. Были известны в то время романы М. Гирели, например, «Преступление профессора Звездочетова», написанное явно на потребу мещанскому вкусу, несмотря на самые солидные заверения автора в предисловии. Герой этого произведения производит какие-то изуверские эксперименты над собственным телом и мозгом, а потом в припадке ревности убивает жену.
Беляевский роман с первых страниц привлекает дерзостью предложенной гипотезы. Зрелище головы, отделенной от тела
и продолжающей жить, производит впечатление не только на молодую ассистентку профессора Керна.
Конечно, читателя, особенно молодого, прежде других волнует вопрос: возможно ли такое? Ответить отрицательно скорее всего было бы неправильно. Конечно, фантаст смотрел далеко вперед, но достижения медицины и биологии позволяют утверждать, что фантазия писателей, как мы не раз убеждались, обгоняла близорукий практицизм их критиков. Хотя автор основывался на полузабытых опытах французского профессора Броун-Секара, хотя еще при жизни Беляева начались работы советских ученых Брюхоненко, Неговского, Петрова, Чечулина, по-настоящему исследования в области оживления и трансплантации органов развернулись в новейшее время. Но живущую отдельно голову собаки у Брюхоненко фантаст мог бы видеть, еще большим триумфом для него был бы снимок, уже после его смерти обошедший всю мировую прессу,— советский хирург Демихов с собакой, к телу которой пришита вторая голова.
Но тогда это были лишь лабораторные опыты, об операциях на человеке и речи быть не могло, хотя остроумный Бернард Шоу не преминул заявить: «...Я испытываю прямо-таки искушение дать отрезать голову мне самому, чтобы я впредь мог диктовать пьесы и книги так, чтобы мне не мешали соблазны, чтобы мне не нужно было есть, чтобы мне не приходилось делать ничего другого, как только производить драматические и литературные шедевры».
Подлинный бум поднялся после того, как в 1967 году южноафриканский хирург К. Барнард осуществил пересадку сердца человеку. С тех пор было произведено немало таких операций. Хотя люди с пересаженным сердцем живут недолго, это, как говорится, технический вопрос, ясно, что в принципе такие операции возможны. Менее ответственные органы, вроде почек, «оживляются» и пересаживаются сравнительно успешно. А после открытия нового продукта плесневых грибов — циклоспорина А, подавляющего, но не разрушающего тканевую несовместимость, перспективы у данного направления хирургии становятся еще более сияющими.
Но — особенно после операций Барнарда — возникла серьезная этическая проблема, которую увидел уже А. Беляев, и в этом сильная сторона его романа. Нравственная подоплека пересадки органов вызывает большое смущение. Ведь то же сердце надо у кого-то взять, значит, пациент должен с нетерпением дожидаться чьей-то смерти, и смерти не от болезни, а насильственной, скажем в автокатастрофе. И конечно, донором должен быть человек по возможности молодой и здоровый: кому же нужно пересаживать изношенное сердце старика? Какая пропасть безнравственности может развернуться за сугубо медицинской проблемой! Но это еще не все. Органы для пересадки надо брать немедленно, буквально в первые же минуты после смерти, до того, как началось разложение тканей. Значит, врач в условиях острого дефицита времени должен однозначно решить вопрос: умер уже человек или еще нет?
Но разве это всегда просто, разве мы не знаем случаев возвращения к жизни, когда уже была установлена клиническая смерть или когда за жизнь пострадавшего, находящегося, казалось бы, в безнадежном состоянии, шла борьба часами, сутками. А тут кто-то хочет его смерти, и это может оказаться «ожидатель», который, как говорится, не постоит за расходами, если речь идет о собственной жизни. И опять-таки открываются соблазнительные возможности для сделок с совестью и даже для прямых преступлений.
Впрочем, оказывается, что оформились и встречные предложения. Вот что пишет один молодой человек из Канады (его письмо процитировано журналом «Форчун»): «Бедным продажа каких-то частей собственного организма, вероятно, сулит единственную возможность вырваться из заколдованного круга бедности. Моя почка — единственный капитал, которым я еще обладаю и который можно продать, чтобы получить шанс выучиться и устроиться на приличную работу...» Эта новая сфера спекулятивных и уголовных махинаций уже нашла свое отражение в искусстве. Был, например, итальянский фильм «Глаз» с Альберто Сорди в главной роли, где безработному за огромную сумму предлагали продать глаз. У нас был переведен и даже экранизирован на телевидении роман английского писателя А. Уиннингтона «Миллионы Ферфакса», эпиграфом к которому, кстати, служит злая и выразительная фраза: «Пересадка сердца — это уникальный метод убийства сразу двух пациентов».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
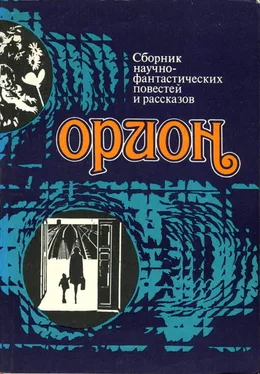

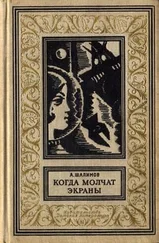
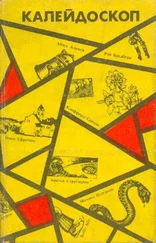


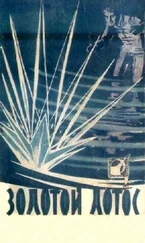
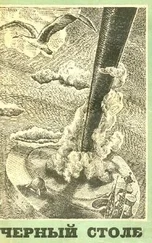
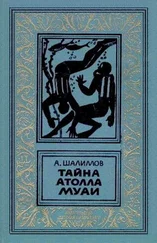


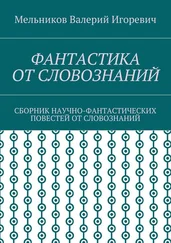
![Север Гансовский - Идет человек [Сборник научно-фантастических повестей и рассказов]](/books/427946/sever-gansovskij-idet-chelovek-sbornik-nauchno-thumb.webp)