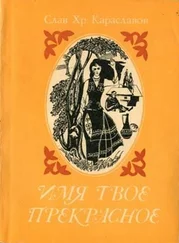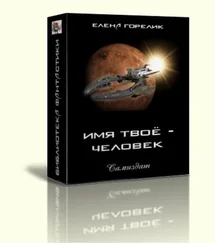Если бушевал, конечно.
Я был один, я хотел пить и есть, я хотел вернуться, хотел быть с Алиной, хотел понять, что же все-таки происходило с нами. Я все это хотел – и ничего не мог.
Кроме одного – встать и пойти. Да, я фишка, и кто-то передвигает меня по игровому полю. Но я пойду не туда, куда меня хотят передвинуть. Не пойду я туда, и все тут!
В жизни своей я не так уж часто совершал поступки, которые были предопределены не обстоятельствами, а моими собственными желаниями, зависевшими исключительно от моего внутреннего состояния. В лабораторию я попал потому, что сошлись несколько обстоятельств: в Пермском институте физики, куда я попал по распределению, не оказалось для меня места («Да, заказывали специалиста, но обстоятельства изменились, готовы дать вам открепление»), а в первый отдел моего родного факультета столь же неожиданно поступил запрос на молодого техника-физика без определенной специализации, но с развитой научной фантазией. Странное было предложение, в первом отделе его не сразу и поняли, а тут подвернулся я, вернувшись из Перми в состоянии легкой эйфории от нежданного избавления. «Пойдете?» – спросил меня вечно поддатый Андрей Степанович, отставной подполковник, сидевший в своем зарешеченном, будто тюрьма, закутке, по-моему, двадцать четыре часа в сутки. «Ну, я-то, может быть, – промычал я, – но ведь там проверка, наверное…» – «А у вас что, родственники в гестапо работали?» – вяло пошутил Андрей Степанович, это была его коронная и единственная шутка, такая же смешная, как объявление о предстоящем дожде с градом. «Нет, – пробормотал я, – но…»
Меня проверяли недели две. И взяли. Наверно, потому что евреем я был всего лишь по матери, а по отцу – русским, так и в паспорте у меня было написано. Евреем по Галахе я стал в Израиле, а до отъезда на вопрос о национальности отвечал в зависимости от обстоятельств. В институт пришел русским, если это вообще имело какое-то значение, а не было порождением моей фантазии, взращенной на общеизвестной в те годы истине, что евреев в секретные учреждения не берут. Не знаю. Никто мне за все годы работы ни разу не намекнул на то, что национальность моя не соответствует профилю института.
И в Израиль я уехал не потому, что таково было мое, лично мое, ни от чего не зависевшее решение. Все ехали, вот и я сорвался. Гордиться тем, что я такое решение принял, не было у меня никаких оснований. Я и не гордился.
Что же я сделал сам в своей жизни? Сам, только сам и исключительно сам?
По жизни меня вели, а я всего лишь не сопротивлялся. Линию жизни направляли внешние обстоятельства, а я колебался с этой линией, как коммунисты колебались вместе с линией партии. И потому мне так просто было встать с песка и пойти прочь от бывшей воды – ноги вели меня сами, не я управлял их движением, и только после того, как я прошел почти километр, мне удалось остановиться. Ноги дрожали, что-то тянуло их дальше. Что-то? Я знал что – это была сила судьбы. Как в опере Верди с таким же названием, которую я слушал и смотрел в амфитеатре Кесарии, это был один из моих немногих походов в театр, билеты распространяли в клубе для новых репатриантов, и меня прельстила не столько незнакомая музыка, сколько объявление: «Льготные цены – скидка 70 %!» Кто-то покупал билет за пятьсот шекелей, а мне он достался за полтораста, и это вдохновляло.
Сила судьбы. Третий закон Ньютона действует, видимо, даже в этических системах, формирующих понятие судьбы или рока. Силе тупой стихии нужно противопоставить равную ей силу собственного духа. Или еще большую. Если она есть.
Если существует придуманная мной Вторая вселенная, вселенная физических полей, и если есть Третья вселенная, мир без материи, связанный с первыми двумя, – этическая вселенная, вселенная духа, а не разума, то и Силу судьбы в каждом из мирозданий можно понимать по-разному. Как и силу духа. И то, и другое – вполне определимые физические понятия, для каждого из миров очевидно ясные, как ясно в нашем материальном мире, что два массивных тела притягивают друга с силой, обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними…
Я заставил себя повернуться. Переставил правую ногу, за ней левую и пошел на север. Почему на север? Неважно, только не на восток, не туда, куда шел до сих пор.
Как это было тяжело! Ноги не слушались, увязали в трясине – по щиколотки, по колена, по бедра… Я вытягивал одну ногу, затем вторую, туфли жали, но это была приятная боль, она свидетельствовала о том, что я жив, ощущаю себя, существую. Живешь не тогда, когда мыслишь и вовсе не потому, что мыслишь. Живешь – когда ощущаешь себя. Собственное тело, голову и сдавливающую виски боль, и ноги, висящие тяжелыми гирями, и среди прочих движений – крови в сосудах, сердечной мышцы, сжимающейся с неподотчетной частотой, затекших уставших ног, – кроме всех этих материальных движений ощущаешь еще и искаженные сознанием движения мысли и понимаешь, что мысль твоя (или чужая? но все равно твоя, потому что ты ее сейчас думаешь, как книгу, тобой или кем-то написанную, читаешь с увлечением или внутренней неохотой) на самом деле вовсе не такая, какой ее извлекает на свет твое сознание. Мысль первична, сознание вторично, и как это соотносится с ответом на основной вопрос философии?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу