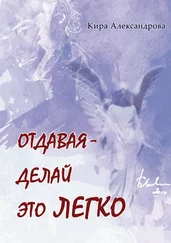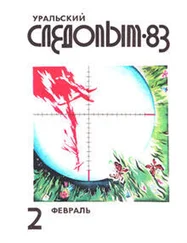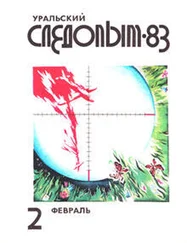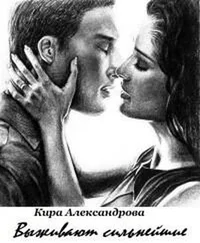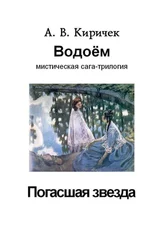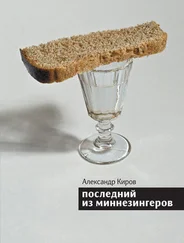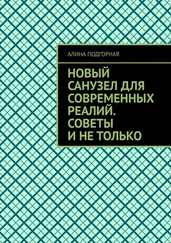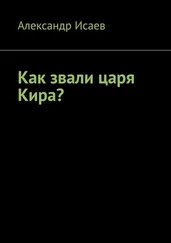Уровень публичности зависит от нескольких факторов: степени «отстранения» других людей от нас, продолжительности пользования туалетом и, главное, его чистоты и качества обслуживания (последнее соображение связано также с нашей заботой о территориальности и приватности).
Рассмотрим сначала проблему «отстранения». С одной стороны, мы по-прежнему испытываем примитивное предубеждение против незнакомцев: во-первых, просто боимся, во-вторых, они нарушают нашу приватность и заставляют вступать с ними в соревнование ролей и статусов {1} . Терпимость к нарушению приватности зависит от отношений между людьми. Здесь мы не имеем в виду очевидные отношения внутри семьи: речь идет о неявных, только подразумеваемых или едва ощутимых взаимодействиях и связях, зависящих от наглядных социальных различий.
К санузлу в гостинице, хотя он, строго говоря, «публичный», мы относимся практически как к домашнему, ведь гостиничный номер и в буквальном, и в психологическом смысле становится нашим временным домом (если, конечно, мы находимся в такой гостинице, где приятно проводить время). В этой ситуации чистота и обслуживание редко имеют большое значение, и то же касается совместного использования и недостатка приватности.
Продолжим ряд. К туалетам на работе, в часто посещаемом клубе или, например, кегельбане мы, как правило, относимся нейтрально: в конце концов, мы знаем многих людей, которые в них заходят, и с этими людьми у нас налажен какой-то контакт (исключение, как мы увидим ниже, — туалет для начальства).
Далее наше отношение продолжает ухудшаться. К туалетам в любимых ресторанах или торговых центрах мы еще относимся более-менее терпимо, но чем реже мы бываем или хотим бывать в каком-то месте, тем меньше нам нравятся тамошние туалеты. Этот «классовый подход» ярко проявляется в действительно «публичных» туалетах — тех, что расположены в аэропортах, на вокзалах, стадионах, обочинах автомагистралей: «Бог знает кто здесь сидел и все трогал». Хотя такие опасения и мысли часто бывают оправданы уже самим видом злосчастного туалета, по большей части они обусловлены нашими религиозными, национальными, расовыми предрассудками относительно «чужаков». В самых крайних случаях эти предрассудки приводят к появлению отдельных туалетов для черных и для белых, а также для «неприкасаемых».
Говоря о «публичности», очень важно учитывать отношение к процессам и продуктам выделения. Собственные нам в той или иной степени неприятны, но к чужим мы относимся еще негативнее. Это опять-таки зависит от степени «отстранения» других людей (при наличии однородной группы). Здесь уровень чистоты и обслуживания становится решающим фактором: именно он определяет меру нарушения приватности и личного пространства. Наша приватность, или, если пользоваться термином Эрвинга Гоффмана, «территория себя», основана на чувстве собственности, чувстве «своего» {2} . Таким образом, в относительно чистом общественном туалете, где никто не «пускает газы» и не делает чего похуже, мы можем представить, что находимся в уединении — в «своем» санузле или туалетной кабинке. Но иллюзия тут же разбивается о грубую действительность, если мы обнаруживаем в унитазе чужие фекалии или видим, что пол залит мочой. В таком случае нам приходится признать, что кто-то злостно осквернил «нашу» (пусть и временно) территорию. Такая ситуация чем-то напоминает манеру некоторых воров-взломщиков, которые, уходя из чужого дома, испражняются, тем самым символически обозначая, что территориальность и приватность жертвы были грубо нарушены {3} . Чем чище публичный туалет, тем меньше возможность найти какой-то изъян, который напомнит нам, что это пространство общественное и что мы делим его с другими (одновременно или поочередно). Чем меньше изъянов (то есть чем лучше состояние заведения), тем слабее наши негативные реакции и предубеждения. Таким образом, жалуясь на грязь в общественном туалете, мы на деле озвучиваем целый ряд претензий — от эстетической неприязни до отвращения, от недовольства нарушением приватности до оскорбления символическим осквернением.
Такие нарушения территориальности могут быть визуальными, звуковыми, обонятельными, даже тактильными и физическими. Пример — нагретое сиденье: многие люди испытывают дискомфорт, сев куда-нибудь и обнаружив, что сиденье еще сохраняет тепло тела предыдущего человека. Сиденье при этом может быть совершенно чистым, но дискомфорт никуда не девается, особенно если речь идет о сиденье унитаза. Это не просто тепло тела — это тепло голого тела, а далеко не всем приятна такая степень близости с другим человеком. Феномен проявляется и при других обстоятельствах: например, на подводных лодках, где матросы спят на одной кровати поочередно, или в гостиницах и публичных домах, если клиенту приходится забираться в еще теплую, развороченную постель. Все это в конце концов упирается в чувство собственности, чувство «своего», которое лежит в основе многих наших требований приватности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
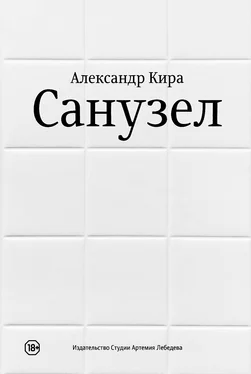

![Александр Киров - Другие лошади [сборник]](/books/24150/aleksandr-kirov-drugie-loshadi-sbornik-thumb.webp)