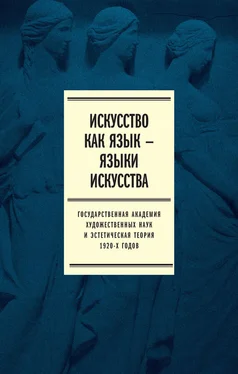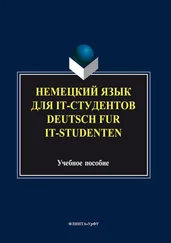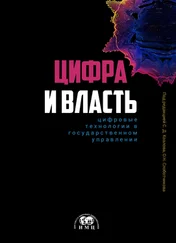В. П. Зубов . Жан-Поль Рихтер и его «Эстетика». С. 147–206.
Неизвестно, предшествовала ли объемистая работа Зубова сделанному докладу или основывалась на нем.
Бюллетень ГАХН. 1926. № 2–3. С. 28–29.
В. П. Зубов . Жан-Поль Рихтер и его «Эстетика». С. 192–193.
В. П. Зубов . Жан-Поль Рихтер и его «Эстетика». С. 195.
Там же. С. 198.
См. протоколы дискуссии в томе II наст. издания.
См.: Т. Г. Щедрина . К вопросу о гегельянстве… Густава Шпета.
По замечанию Т. Г. Щедриной – издателя и комментатора текста, – статья была задумана как четвертый выпуск «Эстетических фрагментов», что говорит о ее теоретической валентности.
Г. Г. Шпет . Искусство как вид знания. С. 321–322.
Н. С. Плотников делает этот концепт (называя его «герменевтической структурой») центральным в эстетике Шпета. Он также подчеркивает этот важный момент преодоления традиционных бинарностей: «С онтологической точки зрения понятие структуры задает особый тип предметов, которые не подчинены картезианской дихотомии res extensa и res cogitans, а образуют специфический тип бытия – бытия культуры как объективированного духа. Анализ данного типа предметов делает излишними традиционные разделения внутреннего и внешнего, формы и содержания, психического и материального. В понятии “структура” фиксируется тип взаимосвязи, формируемой как артикуляция смысла, – взаимосвязи, в которой все внутреннее проявилось внешне и всякая форма составляет элемент содержания и смысла» (Наст. изд. Т. I. С. 42–43).
Кстати, при обосновании этого концепта фраза Гегеля цитируется как классическое выражение идеи срединности эстетического объекта: Г. Г. Шпет . Искусство как вид знания. С. 301, 314.
Г. Г. Шпет . Искусство как вид знания. С. 141. См. также письмо Шпета Т. И. Райнову: Н. К. Гаврюшин . Понятие «переживания» в трудах Г. Г. Шпета (предварительные заметки). С. 138–139.
Г. Г. Шпет . Искусство как вид знания. С. 151.
Текст цит. по публикации Т. Щедриной. В рукописи Шпета вместо «содержания» стоит «созерцания». – Прим. ред.
Г. Г. Шпет . Искусство как вид знания. С. 117.
Г. Г. Шпет . Искусство как вид знания. С. 117–118.
Там же. С. 118.
Там же.
Там же. С. 50.
Там же. С. 62.
Там же. С. 63.
Там же. С. 88.
Г. Г. Шпет . Искусство как вид знания. С. 75.
Е. М. Мелетинский замечает: «…последователи Гегеля правы в том, что в новое время, в условиях буржуазного общества, невозможно создание героической эпопеи и что ведущим повествовательным жанром, стремящимся к решению общеэпических целей, становится роман; правы они и в том, что роман достигает этих целей парадоксальным образом, оставаясь эпосом частной жизни, поскольку глубинные общественные отношения теперь скрыты под поверхностью игры частных интересов» ( Е. М. Мелетинский . Средневековый роман. Происхождение и классические формы. С. 4–5).
В весьма инструктивном исследовании С. Г. Чугунникова показано активное использование русскими формалистами морфологии Гёте, но объективно авторский анализ наводит на следующую мысль: если принцип полярности формалисты освоили, то принцип восхождения (Steigerung) остался ими непонятым. Морфология Шпенглера оказалась ближе гётеанской. См.: С. Чугунников . Протофеномен в теориях русского формализма: формальная поэтика и немецкая морфологическая традиция.
Ars Poetica. Вып. I. С. 143.
Искусство портрета. С. 51–52.
Помимо исследований Густава Шпета следует особо отметить – до сих пор опубликованные лишь частично – дискуссионные работы Александра Габричевского, Александра Ахманова и Апполинарии Соловьевой. Связь с немецкими исследованиями в дебатах ГАХН столь очевидна, что за нее иногда даже укоряют кружок Шпета. Так, в дневниковых записях представителя формальной школы Бориса Эйхенбаума встречается argumentum ad hominem : «московские теоретики признают только Шпета (за немецкую фамилию?) и немцев. О нас говорят с презрением, с иронией – как о детях» (цит. по: Материалы диспута «Марксизм и формальный метод» 6 марта 1927 г. С. 250).
Читать дальше