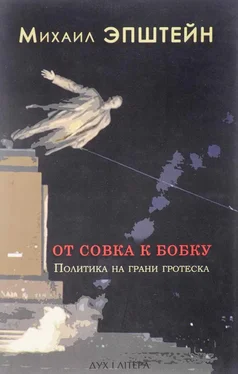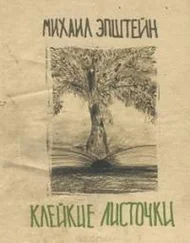«В 1836 г. в одном из изящнейших произведений русской литературы Пушкин пародирует Державина — строфу за строфой — точно в такой же стихотворной манере. Первые четыре строфы написаны с иронической интонацией, но под маской высшего фиглярства Пушкин тайком протаскивает собственную правду. Как заметил Бурцев около тридцати лет назад в работе, которую я теперь не могу отыскать, следовало бы поставить эти строфы в кавычки. В последнем пушкинском четверостишии звучит печальный голос художника, отрекающегося от предыдущего подражания державинскому хвастовству. А последний стих, хоть и обращенный якобы к критикам, лукаво напоминает, что о своем бессмертии объявляют лишь одни глупцы». [46] Комментарий к сороковой строфе второй главы «Евгения Онегина».
Более того, еще задолго до своего комментария к «Евгению Онегину», в своем переводе пушкинского Exegi Monumentum 1943 г. (вошедшего в его книгу Three Russian poets, 1944), Набоков даже радикализировал гершензоновскую трактовку, причем не прибегая к дополнительным словам, выразив свое суждение знаками препинания. Не только 4-я строфа («И долго буду тем любезен я народу…»), но все строфы «Памятника», кроме последней, пятой, заключены в набоковском переводе в кавычки, указывая, что это не прямая речь Пушкина, а некий чуждый голос, грядущий «глас народа», которому поэт отвечает, уже от своего имени, в пятой строфе.
Народ в представлении Пушкина — это глупость, злоба, бесчестие, душевная окаменелость, но прежде всего — рабство.
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
(«Свободы сеятель пустынный…»)
Точно так и выходит, как у Пушкина. На двести лет вперед предсказал. Рабство передается по наследству, «из рода в роды». Сначала пасомых стригут. Потом режут. А в ответ — гремят послушные гремушки, стада ликуют и просят еще — ярма, бичей.
Недавно, в связи с какими-то моими размышлениями о русской культуре, я получил такую отповедь в комментариях к ЖЖ: «Ох уж эти эпштейны и Рабиновичи! Нет им покоя в усовершенствовании чужой жизни! Нет бы научились сначала быть действительно Эпштейнами и Рабиновичами!… Нам нельзя заниматься чужими делами».
Поначалу решил, что это ласковые предупреждения антисемитов — но оказывается, отповедь пришла из Израиля. Не вмешивайтесь в ИХ, российские дела. Вот и вся отличие от антисемитов. А по сути — та же самая черта оседлости, только охраняемая не извне, а изнутри. Не выпускать «своих» из местечка. Пусть Эпштейны кучкуются среди Рабиновичей и не лезут ни к Ивановым, ни к Джонсонам!
Таких людей, которые держат своих соплеменников за фалды или пейсы и не пущают, я бы назвал гиперсемитами. Это семиты, которые строят черту оседлости изнутри. Приставка «гипер», как известно, означает и усиление — и подделку. «Гипертония» — повышенное кровяное давление. «Гипертрофия» — односторонний болезненный рост. «Гиперинфляция» — быстрый рост товарных цен и денежной массы, который ведет к резкому обесцениванию валютной единицы. Там, где гипер, там слишком много всего — и ничего хорошего.
Вот и гиперсемитизм — это такое раздувание еврейства, которое обессиливает его изнутри, превращает в местечковость, туземность, этнографию. Гиперсемиты бдительно охраняют черту оседлости и действуют, вольно или невольно, заодно с антисемитами, которые сторожат ее извне. Любой еврей, выходящий за пределы своей этничности, раньше или позже почувствует на себе этот контролирующий взгляд: назад! куда высунулся?! Они сами «осели» и других осаживают. О чем бы они ни говорили: о физике или литературе — они говорят только о евреях-физиках, евреях-писателях, ничего, кроме этничности, их не волнует, и любой разговор с ними сразу скисает, сморщивается до национального вопроса.
Сколько разговоров о национальных корнях — и кто бы хоть раз, в разговоре о почве и нации, упомянул о кронах! Представьте себе дерево, настолько искривленное, что всей тяжестью своей кроны оно устремляется обратно к корням и врастает в них, вместо того, чтобы подниматься в небо. Вот это согнутое в дугу дерево и являет собой образ «цветущего» национализма. Он простирает руки, обнимающие свой народ, лишь для того, чтобы врасти в него ногтями и кистями.
Между тем евреям больше всего подобает гордиться своей всемирностью, как, впрочем, и русским, по мысли Достоевского: «Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное.
Читать дальше