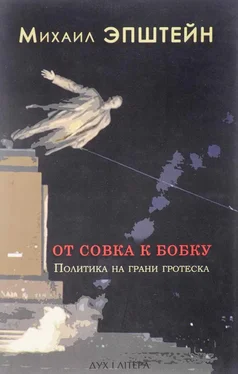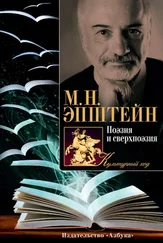4. Народ ликует, славит правителя и желает ему править до самой смерти (своей).
И все это ради чего? Неужели только для того, чтобы всем стали, наконец, понятны строки народного поэта А. Пушкина?
Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!…
… Душе противны вы, как гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры…
(«Поэт и толпа»)
Раньше воспринималось это по-школьному, как прекраснодушная риторика, обличение «светской черни». «Печной горшок тебе дороже» — это что, о придворной знати? Не доходило до ума и сердца. И вот наконец дошло. Так просто! И жутко. Когда громогласно раздается слово «народ», мне становится страшно за личность, за культуру…
Вообще «народ» вызывает у Пушкина, как правило, чувства горечи и презрения. Нет в русской литературе никого, более чуждого народопоклонству (пожалуй, кроме В. Набокова).
От Пушкина, конечно, не стоит ожидать абсолютной логической последовательности в обращении к понятию «народа». Порой ссылаются и на такие стихи, где «народ» звучит сочувственно и возвышенно:
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.
Эти строки часто цитируются для демонстрации «народности» Пушкина — но вне контекста, а он-то все и решает. Стихотворение «К Н.Я. Плюсковой» (1819) восхваляет императрицу Елизавету (супругу Александра I) и обращено к ее фрейлине. Пушкин славит красоту и добродетель императрицы и утверждает, что в своей похвале он не одинок, а выступает от имени всего русского народа, который якобы восхищается Елизаветой. Иными словами, «эхо русского народа» в данном стихотворении — это по сути не более чем льстивая риторическая завитушка, комплимент царствующей особе.
Я, вдохновенный Аполлоном,
Елисавету втайне пел…
Я пел на троне добродетель
С ее приветною красой.
… И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.
Ну а как же «народная тропа» — пушкинское завещание?
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
… И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.
Но в самом ли деле «быть любезным народу» означает высшую самооценку в устах Пушкина? Слово «любезен» вызывает сомнение. Державин иронически писал: «Поэзия тебе любезна, Приятна, сладостна, полезна, Как летом вкусный лимонад». Но главное, что «чувства добрые», «свободу» и «милость» Пушкин вовсе не считал смыслом и целью поэзии. «Поэзия выше нравственности — или по крайней мере совсем иное дело. Господи Исуси! какое дело поэту до добродетели и порока?» [43] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений. В 10 т. М., 1958. Т. 7. С. 550.
По мысли М. Гершензона, автора самых глубоких книг о миросозерцании Пушкина («Мудрость Пушкина», «Гольфстрем»), «Пушкин в 4-й строфе говорит не от своего лица, — напротив, он излагает чужое мнение — мнение о себе народа. Эта строфа — не самооценка поэта, а изложение той оценки, которую он предвидит себе».
Тогда уясняется, наконец, и смысл последней, 5-й строфы, которая представляет собой антитезу предыдущей:
Веленью Божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспоривай глупца.
«Откуда вдруг этот глупец?», — удивлялся В. Вересаев, наивно веровавший в «любовь Пушкина к народу». — «Загадочная, волнующая своею непонятностью строфа, совершенно не увязывающаяся со всем строем предыдущих строф». [44] В. В. Вересаев. Загадочный Пушкин. М., 1999, С. 254.
В том и дело, что рассуждающий так человек, восхваляющий Пушкина за его служение народу, есть глупец. Гершензон отвечает на это недоумение, проясняя свою трактовку прямой речью от лица Пушкина. «Пушкин говорит: “Знаю, что мое имя переживет меня; мои писания надолго обеспечивают мне славу. Но что будет гласить эта слава? Увы! Она будет трубным гласом разглашать в мире клевету о моем творчестве и о поэзии вообще. Потомство будет чтить память обо мне не за то подлинно-ценное, что есть в моих писаниях, и что я один знаю в них, а за их мнимую и жалкую полезность для обиходных нужд, для грубых потребностей толпы.” [45] Михаил Гершензон. Избранное. Т. 1. Москва-Иерусалим: Gesharim, 2000, с. 39.
Можно, конечно, примкнуть к канонической, «школьной» трактовке: Пушкин воспевал добро, свободу и милосердие и в этом видел залог своего бессмертия в памяти народной. Но что-то останавливало не только М. Гершензона. Трудно не довериться эстетическому чутью В. Набокова, и не только как писателя, но и исследователя, автора четырехтомного комментария к «Онегину» (опять-таки, лучшего во всей пушкиниане). В. Набоков пишет о «Памятнике»:
Читать дальше