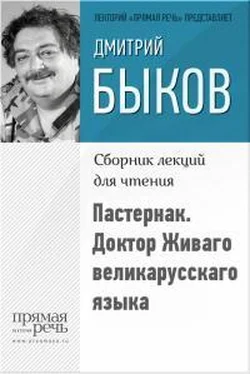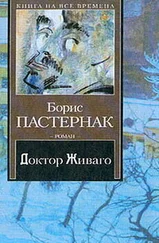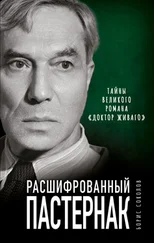А куда же хочется? Хочется дальше в ту пустоту и свободу, которые есть в одном из первых тогдашних предвоенных стихотворений – «Опять весна».
Поезд ушел. Насыпь черна…
Сохранилась страничка, где он нотами отмечает себе интонации чтения.
Где я дорогу впотьмах раздобуду?
Неузнаваемая сторона,
Хоть я и сутки только отсюда.
Замер на шпалах лязг чугуна.
Вдруг – что за новая, право, причуда?
Бестолочь, кумушек пересуды…
Что их попутал за сатана?
Где я обрывки этих речей
Слышал уж как-то порой прошлогодней?
Ах, это сызнова, верно, сегодня
Вышел из рощи ночью ручей.
Это, как в прежние времена,
Сдвинула льдины и вздулась запруда.
Это поистине новое чудо,
Это, как прежде, снова весна.
Это она, это она,
Это ее чародейство и диво.
Это ее телогрейка за ивой,
Плечи, косынка, стан и спина.
Это Снегурка у края обрыва.
Это о ней из оврага со дна
Льется безумолку бред торопливый
Полубезумного болтуна.
Хочется в эту мокрую весеннюю ночь, в которой намечается что-то новое, чего еще не было. Из душного карнавала хочется к ледяному спасительному ручью. Этот холод ледяного ручья – это и есть интонация «Доктора Живаго», того совершенно небывалого нового романа, в котором нет уже искусственной попытки приноровиться к обстоятельствам, в котором нет уже ни малейшего конформизма, есть одно бесконечное здоровое раздражение и некоторый восторг от того, что можно опять побыть самим собой.
Под занавес хотел бы я объяснить одно странное недоразумение, которое всегда возникает с поэзией Пастернака при разных ее толкованиях. Как-то так получилось, что «Снег идет» у нас воспринимается как довольно радостное стихотворение. Это стихотворение из последних, уже после «Доктора…», из «Когда разгуляется». Знаем мы его, конечно, в основном, благодаря двум замечательным музыкальным версиям: не очень хорошей, но замечательно оркестрованной, хорошо придуманной свиридовской и совершенно, на мой взгляд, гениальной версии Сергея Никитина. Все мы помним это стихотворение.
Снег идет, снег идет.
К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплет.
Снег идет, и всё в смятеньи,
Всё пускается в полет, –
Черной лестницы ступени,
Перекрестка поворот.
Снег идет, снег идет,
Словно падают не хлопья,
А в заплатанном салопе
Сходит наземь небосвод.
Словно с видом чудака,
С верхней лестничной площадки,
Крадучись, играя в прятки,
Сходит небо с чердака.
Потому что жизнь не ждет.
Не оглянешься – и святки.
Только промежуток краткий,
Смотришь, там и новый год.
Снег идет, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той
Или с той же быстротой,
Может быть, проходит время?
Может быть, за годом год
Следуют, как снег идет,
Или как слова в поэме?
Снег идет, снег идет,
Снег идет, и всё в смятеньи:
Убеленный пешеход,
Удивленные растенья,
Перекрестка поворот.
О чем речь? Ничего радостного, ничего свежего особенно, ничего экзотического в этом стихотворении нет. Это время заносит человека. Это человека заволакивает неживой мир. Человек проваливается в него. И всегда проваливается в конце концов. Нет другого выхода из этого противостояния. Разрыв с этим неживым миром, попытка противопоставить себя его большинству – помните, у Бродского абсолютно пастернаковская формула: «Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве…»? Правота этого заносимого снегом меньшинства – это и есть, в конечном итоге, главный внутренний сюжет «Доктора Живаго». И именно за это можно простить этой книге ее неуклюжесть, длинноты, повторы. За чувство, что не мы ради всего, а все ради нас.
Я заметила, что вы очень часто употребляете слово «учитель» – это ваше мироощущение?
Да нет. Просто оно… Как сказал когда-то Кушнер, «Ахматова так часто употребляет слово “таинственный”, потому что оно хорошо заполняет паузы в ямбе». Ну, наверно, и здесь как-то…
Было ли что-то особенно поворотное в судьбе Пастернака? Момент, когда все в дальнейшем могло пойти по-другому…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу