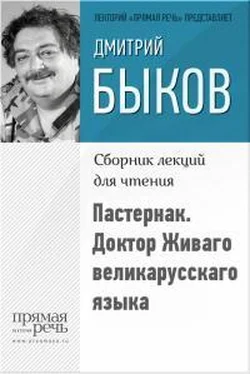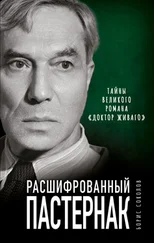И вот он получает письмо от Ольги Силовой, которая уехала в Воронеж, скрывается там, живет, растит мальчика. И Пастернак ей отвечает: «Как странно, Оля, вот есть люди, которые тянутся к недостижимому совершенству, например, Хлебников, например, Мандельштам. Мандельштам-то у вас сейчас как раз в Воронеже. Мне кажется, это все такое детство! Мне кажется, надо жить с тем, что есть, впрочем, наверное, я не прав. Черкните мне, Оля», – заканчивается это письмо очень по-пастернаковски. Вот здесь это «впрочем, наверное, я не прав», конечно, просто фигура речи. Надо мириться. Надо терпеть. Надо жить с тем, что есть. Примерно в это же время он пишет Ольге Фрейденберг: «Конечно, многое у нас еще и темно, и мрачно, а все-таки, при всей дури, которая делается вокруг, как посмотришь, надо же выбирать из того, что есть, – так хорошо еще, пожалуй, в российской истории не было, так интересно, так масштабно…» Это я своими словами пересказываю, у него, конечно, написано гораздо более невнятно и гораздо более талантливо. Но, как сказал когда-то Фазиль Искандер: «Когда читаешь Пастернака, все время ощущение, что разговариваешь с бесконечно умным, бесконечно интересным и бесконечно пьяным собеседником». Наверное, в этом что-то есть.
После этой февральской переписки с Силовой в нем повернулся какой-то внутренний механизм. «Впрочем, может быть, я не прав» начинает звучать громче и громче. А тут вдруг ему звонят из самых верхов и сообщают, что он должен поехать на антифашистский конгресс в Париж.
С антифашистским конгрессом, который затеяли Мальро и Эренбург, получилась очень странная история. Конечно, на фоне фашизма Советская власть выглядела панацеей от всех бед. Более того, вся европейская интеллектуальная публика, не только левая, значительная часть американской интеллектуальной публики, измученной Великой депрессией, в это время ужасно полюбила Советскую власть. Многие поехали сюда. Некоторые, как Андре Жид, повидав это все, уехали в ужасе. Другие, как Фейхтвангер, по еврейской своей слабости, действительно увидели в СССР спасение от фашизма и написали восторженную книгу, с личным предисловием тов. Сталина она вышла в свет. Третьи, как Дженни Афиногенова, американская восторженная коммунистка, вышла замуж за рапповца и переселились сюда. В общем, все стало разворачиваться в пользу Советского Союза. И вот чтобы окончательно развернуть общественное мнение Запада в пользу СССР, задумывается масштабный конгресс писателей против фашизма. Туда предполагается поездка Горького. Ходили слухи (очень живучие в советском литературоведении) о том, что Горького не выпустили. На самом деле Горький ехать не захотел. Он не видел большого смысла в этом мероприятии. А ему надо было заканчивать «Самгина», и он плохо себя чувствовал. Он в результате остался.
Поехала огромная толпа никому, по сути дела, на Западе не известных писателей. А когда уж им стали задавать неприятные вопросы про судьбу троцкиста Виктора Сержа, который в это время арестован, про зажим свободы прессы в России да про начинающийся культ личности, отвечать приходилось Тихонову, самому умному из присутствующих, но именно самый умный из присутствующих разводил руками и хватал воздух ртом.
Увидев, что конгресс проваливается, а никого из известных европейских писателей не привезли, Эренбург шлет срочную телефонограмму в «Известия», а из «Известий» от Бухарина она попадает к Сталину: «Требуется немедленно Бабеля и Пастернака».
Пастернаку звонят, говорят: «Вы должны немедленно выехать на конгресс, чтобы успеть на его последние дни». Пастернак начинает гудет в трубку виновато: «Я не могу, я болен, я никуда не поеду». – «Считайте, что вы мобилизованы», – говорят ему.
На следующий день к нему приезжают, везут его в кремлевское ателье, пошивают ему костюм, но он все равно, то ли в знак протеста, то ли из сентиментальных чувств едет в единственном своем полосатом отцовском костюмчике, который ему Леонид Осипович оставил, уезжая в эмиграцию.
Приезжает он в Берлин. Едет он в поезде с Бабелем. Бабель рассказывал потом, что никогда еще не попадал в ситуацию, когда человек всю ночь говорит и из этого непонятно ни единого слова. Надо сказать, что вообще Пастернак с Бабелем был в отношениях очень сложных. Бабель был прекрасным собеседником, идеальным собеседником, умеющим как-то подоткнуться, подладиться под любого. Он с одинаковой страстью и с одинаковым интересом говорил с Есениным, с Горьким, с коннозаводчиками, с Беталом Калмыковым, с еврейским маклером, с жокеем, с продавцом – ему совершенно было неважно… А вот с Пастернаком он говорить на смог, это удивительный показатель того, в каком Пастернак в это время пребывает душевном состоянии. Всю дорогу он ему пересказывает сюжет своего будущего романа, а роман этот о девочке, которую растлил кузен, пожилой человек, имеется в виду, конечно, Милитинский, роман Зинаиды Николаевны с ним, и вот ему все время кажется, что этот страшный пошлый призрак уводит у него возлюбленную, и она ему там сейчас, наверное, изменяет, – и весь этот ужас Бабель должен выслушивать сутки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу