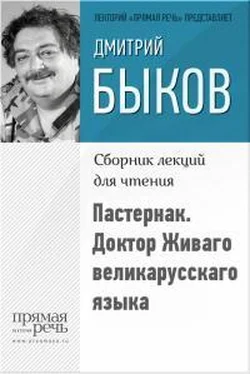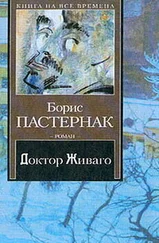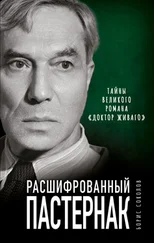Но история настоящая начинается, конечно, со свободной личности. А история леса никого не интересует. История – это вторжение Бога в мир.
И вот страшная мертвечина большевизма, желающего осчастливить всех подряд и всех вокруг, – это главный предмет раздражения в «Докторе…». Вспомним замечательный монолог, с которым доктор обращается к командиру отряда – вы решили меня спасти от моей жены, от моей семьи, от всего, что мне дорого, и от всего, что я люблю. И теперь еще вы мне не даете спать вашими разговорами.
Когда доктор читает декреты, он поражается их такой же, как иудаизм, ползучей речи, абсолютно не знающей высоты, не знающей вертикали, выражается в их казуистике, когда описывается лекция, которую читает заезжий лектор, мы поражаемся тому, какие это мертвые слова, дикие, и как тем не менее этот лектор стоит перед молодым командиром отряда и хочет ему понравится, а тот ему хамит откровенно, чувствуя себя в своем праве. Он сейчас вот этого старика из бывших будет ставить на место. И он, вытянув грязные сапоги, говорит ему эти наборы гадостей. Вся большевистская казуистика отвратительна. Большевистское хамство отвратительно. Отвратительны попытки насильственной хирургии и насильственного спасения.
Ну а что же тогда было? В чем был смысл русской революции? – естественно, спросит потрясенный читатель. Как спросили, кстати говоря, первые читатели романа. Ведь Пастернак, действительно, настолько верил в оттепель, что он искренне пытался его опубликовать. Он отправил его в «Новый мир». Тоже очень хорошая история советского идиотизма, ведь, «Доктор…», конечно, не был напечатан в России очень долго и впервые появился в печати в 1988 году в России, в «Новом мире», естественно, но катастрофа заключается в том, что все самые крамольные куски из «Доктора» напечатаны были. Это куски, которые попали в качестве живого примера, в качестве наглядной иллюстрации в писательский отзыв на «Доктора…».
«Литературная газета», а затем и «Новый мир», поясняя, почему роман не мог быть напечатан в России, написали Пастернаку негодующее письмо с самыми грубыми, с самыми резкими цитатами про Советскую власть. Действительно, можно представить себя Фединым, можно представить себя Твардовским, людьми разного, конечно, таланта, Твардовский – гений, Федин – неизвестно кто, но людьми одинаково советскими, и вот они вдруг читают в романе, что, собственно говоря, смыслом всей революции и последующих за ней кошмаров было только одно: чтобы Юра и Лара оказались вдвоем в Варыкино. К такой постановке вопроса русский читатель не был готов. Страшно сказать, он не готов к ней и до сих пор.
Очень странно представить себе, что главная мысль романа сформулирована в четырех строчках, в последнем стихотворении, кусок о том, что
Не потрясенья и перевороты
Для новой жизни очищают путь,
А откровенья, бури и щедроты
Душе воспламененной чьей-нибудь.
И вот это «душе воспламененной чьей-нибудь» многомиллионно важней, чем любые потрясения и перевороты.
Вот к этой странной постановке телеги впереди лошади русский читатель абсолютно не был готов, он привык к тому, что все-таки общественное гораздо выше личного. И тут в романе мы вдруг узнаем, что все оправдание эпохи – это Юра, что все, что должно было там произойти, – это его встреча с Ларой и их счастье, что революция была устроена для того, чтобы эти двое оказались вместе, и чтобы Лара, чья судьба оплетает судьбу доктора как плющ, вьющийся вокруг дуба, чтобы Лара его нашла и осталась с ним надолго. И чтобы они родили девочку. И девочка эта потом прожила такую страшную жизнь.
Все это только для того, чтобы во всей полноте осуществились два дара: дар любви – в случае Лары, дар творчества – в случае доктора. Для того, чтобы были написаны эти волшебные главы «Рябины в сахаре». Почему «Рябина в сахаре»? потому что сочетание терпкости, горечи и сладости в этой их обреченной, бесконечно трогательной и прекрасной любви.
Роман весь – это раздраженный крик частного человека, настаивающего на том, что он есть цель и смысл истории. Как это получилось у Пастернака? Вот об этом стоит поговорить подробнее. Здесь мы выйдем уже, конечно, на любимую и заветную тему – Пастернак в 1930-х годах. Почему она мне близка? Потому что мы сейчас с режиссером моим пишем сценарий, который будет скорее всего называться «Иней», будет такая четырехсерийная картина о Пастернаке в 1935 году. 1935 год кажется мне ключевым и, наверное, самым интересным в биографии Пастернака, и именно ведь после него родился «Доктор Живаго». Потому что мечта об этом романе преследовала его всю жизнь, но только после 1935 года он понял, про что его писать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу