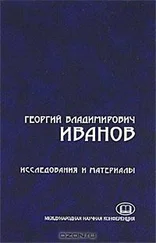Вадим Крейд - Георгий Иванов
Здесь есть возможность читать онлайн «Вадим Крейд - Георгий Иванов» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Публицистика, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Георгий Иванов
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Георгий Иванов: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Георгий Иванов»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Георгий Иванов — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Георгий Иванов», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
С 1918 г. его жизнь опять множеством нитей связана с Гумилевым, только что вернувшимся из Западной Европы в Петербург. Один из примеров этой связи - переводческая работа для издате-льства "Всемирная литература". Заняться этой работой предложил Гумилев. К лету 1919 г. Иванов закончил перевод поэмы Колриджа "Кристабель". Переводы из Готье, Самэна, Бодлера он впоследствии включил во второе издание "Вереска". Помимо "Всемирной литературы", в Петрограде было еще несколько мест, где постоянно встречались писатели самых разных направлений. Одним из них был Союз поэтов. О своей работе секретарем этой организации Г. Иванов рассказал в красочном, с юмором написанном очерке "Китайские тени (Литературный Петербург 1912-1922 гг.)". Осенью 1920 г. был открыт Дом Искусств, столько раз описанный в различных мемуарах. Начал выпускаться журнал "Дом Искусств", в котором Г. Иванов публиковал свои стихи и рецен-зии. Дом Искусств на Мойке был также и общежитием, и в нем поселились, в частности, Гумилев и Мандельштам. По средам здесь выступали писатели, поэты, ученые; читал свои новые стихи и Г. Иванов. Словом, было немало поводов для посещения этого "сумасшедшего корабля", как назвала Дом Искусств О. Форш в одноименном романе. Большим событием в жизни Г. Иванова было возникновение в 1920 г. второго Цеха поэтов. Он вместе с Гумилевым был инициатором возрож-дения этого кружка, оставившего заметный след в литературе. С наступлением НЭПа у Цеха появилась возможность выпускать свои альманахи.
Сразу же после выхода в свет первого из них (под названием "Дракон") Г. Иванов откликнулся на это издание статьей. Это по-прежнему критика, строящаяся на точных оценках, метких характе-ристиках и качественных определениях. Большое значение имеет акмеистическая шкала ценнос-тей. Хороший поэт по этой шкале - культурен, начитан, осторожен, находчив. "Он не задается мировыми темами, а просто описывает повседневную жизнь и будничные переживания такими, как они есть". Этот вывод настолько перекликается с манифестами акмеистов, что кажется вполне на них основанным. Критика Г. Иванова до сих пор совсем не изучалась. Имеется лишь несколько высказываний, отмечающих его яркий талант в этой области. Например, В. Ильин в статье "Лите-ратуроведение и критика до и после революции" пишет: "Г. В. Иванов считается крупным крити-ком". Говоря о том, что русское зарубежье бедно именами интересных критиков, автор статьи делает исключение на этом неярком фоне лишь для Ходасевича, Бунина и Г. Иванова.
В петербургских литературных кругах Иванова прозвали "общественное мнение". А в Париже Дон Аминадо назвал его "Жорж опасный". Ю. Терапиано писал по поводу этого прозвища: "Георгий Иванов имел дар с убийственной меткостью попадать в самое больное место своего врага, находить у него все самое уязвимое и подносить это читателю столь убедительно, что каждый как будто сам произносил этот приговор, принимал мнение Георгия Иванова за свое". Находясь уже в эмиграции, Иванов написал нашумевшую статью "В защиту Ходасевича", в которой проницательно указал на границы его таланта: "пресным кажется постижимое совершен-ство". С другой стороны, он с той же меткостью отмечает наиболее сильные черты поэзии Б. Поплавского. Большинство его отзывов написаны в доброжелательном тоне, но в случаях, когда, по его мнению, дело шло об искусственно создававшихся репутациях, тон становился жестким или саркастическим.
За год до эмиграции вышли в свет "Сады" - лучшая книга петербургского периода Г. Ивано-ва. Акмеизм, по выражению Мандельштама, есть тоска по мировой культуре. "Сады" выражали не только эту "поэтическую тоску", но и реальную связь с целой галереей культурных традиций: евангельские мотивы, классицизм, греческая мифология, барокко, Оссиан, сентиментализм, английский и немецкий романтизм, русский фольклор, архитектура Петербурга, живопись Лоррена, Ватто и русских художников двадцатого века и целый ряд других мотивов, лаконично и выразительно упомянутых в книге. Все эти традиции прошли через оригинальное, иногда прихот-ливое мироощущение автора, и все следы этих традиций объединяются личностью и стилем поэта, его излюбленными образами и мотивами. Вспоминая, как создавались "Сады", Г. Адамович писал, что стихи Г. Иванова в этот период как будто по-настоящему вырвались на простор. Надо заме-тить, что стихи "Садов" писались с 1916-го по 1921-ый год. "Мне, да и не только мне одному,- писал Адамович, - тогда казалось, что Иванов в расцвете сил дотянулся до лучшего, что суждено ему написать, и хотя формально это не было верно, я и сейчас вспоминаю его тогдашние стихи, широкие, легкие, сладкие без всякой приторности, нежные без сентиментальности, как одно из украшений новой русской поэзии".
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Георгий Иванов»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Георгий Иванов» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Георгий Иванов» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.