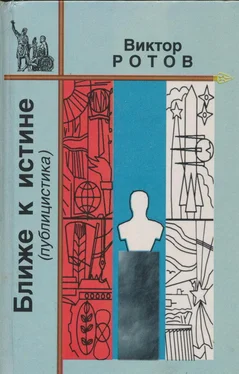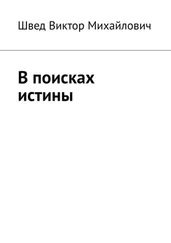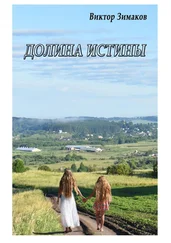Как ни стращали матерые зеки Колымой, он почему-то не испытывал страха. Ему было как бы все равно, где загибаться, если загибаться. Пятнадцать лет строгого режима висели над ним, словно гильотина, могущая в любую минуту опуститься. Он чувствует ее над собой ежеминутно и так свыкся с ощущением ее лезвия на шее, что его уже ничто не страшит. Какая разница, где и когда она отсечет ему голову — здесь, в лагере Тайшетлага, или на Колыме на золотых приисках? На месте или в дороге? Порой ему даже хотелось, чтоб это скорей свершилось. Особенно обострялось это желание, когда он вдруг отчетливо понимал, что за эти пятнадцать лет, пока он мается по лагерям, его забудет не только Евдокия, а и мать родная. В такие минуты безысходности он как‑то особенно четко сознавал, что его на этом свете ничто не держит. Впереди никакого просвета. Одна тьма! Ад кромешный.
Вот тогда‑то начиналось самое страшное — ему хотелось наложить на себя руки. Покончить с собой. Или еще проще — выскочить из колонны, когда их ведут на лесосеку, и побежать. Пусть стреляют. Мгновенная смерть — легкая смерть. Но… Что‑то все‑таки удерживало от этого шага. Что?
Иногда ему казалось, что он не владеет собой. Что в нем сидит некто другой и криво, самоуверенно улыбается. Мол, не дергайся. Твоя судьба в моих руках. Не ты ею распоряжаешься со своими страданиями и переживаниями, а я. И не понять было, что это? Судьба? Или ангел-хранитель? А может, само бессмертие? Наивно, конечно! Но ведь что‑то было. Что? И опять вставали зыбкие воспоминания о Евдокии. Он почти не помнит ее лица. Просто в душе тлеют негасимо какие‑то милые, возжигающие уверенность в себе нюансы. Вроде ясных, беспорочных глаз ее, когда она смотрела на него. Тепло и бархат женского тела в разрезе на груди. И стеснительно — требовательные взгляды, когда доставала грудь, чтоб покормить малышку. Сколько прелести, манящей беззащитности и красоты, стыда и кротости было тогда в ее взгляде! За такой взгляд, за один только такой вот стыдливый женский взгляд мужчины идут на смерть. Или переносят муки, от которых содрогается земля. И вот этот ее взгляд светит ему в этом аду. Ведь ничего не было между ними! И не могло быть. Она мужняя жена. Она ждет своего Митрия — черноморского морячка. У них ребенок. Они семья. Они повязаны тайной интима… Но почему где‑то в дальних тайниках его души теплится ее образ? И он знает почему‑то, что в тех тайниках ее души она хранит его, Павла, образ. Воспоминания о нем. Он это чувствует. А потому и мучается вопросом, где теперь она? Что с ней? Чья грубая рука касается ее хранимой нежности? Жива ли?..
В ответ на этот главный вопрос, откуда‑то из недр предчувствий, идет тонкий, но уверенный сигнал — жива! Жива!!! Он ловит сердцем ее сигналы. Он чувствует ее присутствие в этом мире. А потому обязан выжить. Во что бы то ни стало! И найти ее…
Он не страшился попасть в этап на Колыму, и он попал.
Матерые уголовники, ухитрившиеся избежать этапа на Колыму, насмешливо утешали их: вам повезло — лето! И
гримасничали издевательски: «Колыма, Колыма — теплая планета: двенадцать месяцев зима, остальное лето!..»
Под Владивостоком, на пересыльном пункте, их набралось тысячи. Прибывали из разных районов страны. Состав за составом. Этап за этапом. А тут жарища, изнуряющий гнус и ухудшающиеся не по дням, а по часам условия содержания большого скопления людей. В бараках становилось все теснее. Особенно в женских. А потом и вовсе места не стало. Вновь прибывающих загоняли в накопители, огороженные колючей проволокой. Под открытым небом. Вскоре и накопители переполнились. Срочно строили новые. А эшелоны с людьми все шли и шли.
ООС (Отдел общего снабжения) уже не справлялся со своими функциями: не хватало продуктов питания, хлеба. Уже ограниченно выдавали кипяток. Потом и сырую воду урезали. О горячей пище забыли и думать. Спали прямо на земле. В сухие дни еще ничего, а в дождь…
В дождливые ночи резко понижалась температура. Некоторые не выдерживали больших перепадов. Утром находили мертвых. Их почему‑то прятали.
Павел сначала не мог понять, зачем их прячут. Потом, когда привезли хлеб, до него дошло — на мертвых получали пайку и делили между собой. Блатные и уголовники. Эти распоясались. И никакой на них управы. На все жалобы у начальства был один ответ: «А чего тебе? Все равно на смерть едешь…»
Ужасные условия содержания и безысходность стали косить людей сначала десятками, а потом и сотнями. Начальство это не волновало. У них веская отговорка: «А что мы сделаем? Вас гонят сюда тысячами…»
Читать дальше