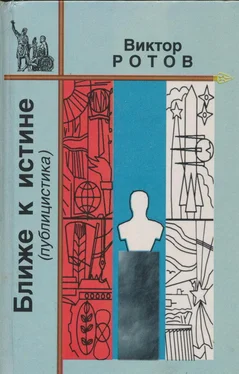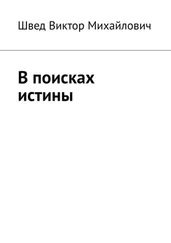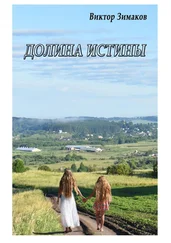Репертуар хора был довольно солидным: патриотические песни, русские народные и даже классика. «Ноченька» А. Рубинштейна.
Павел как‑то сразу определился, как только начали формировать художественную самодеятельность. Ходить в хор, «драть глотку», как это называлось в зоне, все же лучше, чем резаться в карты на нарах под горбушку хлеба. К тому же занятия в хоре отвлекали от мыслей о жратве — самая распространенная «хворь» в лагере. Если не считать неусыпную агрессивность блатных и уголовников. У этих постоянный промысел — загружать «работой» шестерок и «кроликов» — людей безвольных, потерявших себя.
К Павлу тоже подступались, и не раз. Но его научили, как поступать, если «наедет» блатной. Наука простая: бей по рогам, не раздумывая. Он так и сделал.
Как‑то ночью проснулся от жгучей боли в ногах: ему меж пальцев вставили клочок бумага и подожгли. «Велосипед» называется. Когда прижжет, человек начинает дрыгать ногой.
Павел краем глаза заметил хмыря, нырнувшего под нары. Сел на нарах, притаился и, когда тот высунулся посмотреть на «велосипед», двинул его в лоб ногой так, что тот улетел через проход между нарами и головой врезался в стойку. Дружки потом его отхаживали. Павел думал, что придуг квитаться, но не пришли.
Кроме участия в самодеятельности, Павел приспособился еще писать лозунги. «Сталин — светоч коммунизма». Или: «Надо помнить, товарищи, что за каждым «делом» стоит живой человек». И. Сталин». Павел тщательно выписывал слово «светоч», удивляясь про себя изобретательности подхалимов. Это ж надо придумать такое слово! Но… Светоч — так светоч. Лишь бы на мороз не юняли. Он не спеша выводил буквы, потом замедленно развешивал лозунги, всячески затягивая время работы в клубе. Начальство смотрело на это сквозь пальцы. А что им оставалось делать? — заказы на лозунги посыпались из соседних лагерей. А потом и со всего Тайшетлага. Павел охотно и помногу работал. Часто до поздней ночи. По особому распоряжению начальника лагеря. Его фамилия замелькала в поле зрения начальства. И завклубом к нему «потеплел». А Мордвинов — руководитель самодеятельности сиял глазами при встрече.
В общем, Павлу жилось не так уж плохо, хотя и мучительно. Мучила одна и та же мысль — за что? Слабым утешением была некая неосознанная вина — все‑таки был в плену…
Он думал об этом пригревшись у буржуйки. И ге слышал, как подошел Мордвинов.
— Тебя присмотрели педерасты, — сказал он вполголоса. — Будь начеку. Бей по рогам, не раздумывая
На следующий день по лагерю прокатился слух: из Москвы пришла бумага, согласно которой лагеря в составе Тайшетлага должны отрядить этап на Колыму, h i золотые прииски.
Зеки засуетились. Бывалые толковали, что прииски на Колыме — это верная смерть. А дорога туда — сущий ад. И закипел подспудный процесс: одни вдруг заболели чахоткой, некоторые стали рубить себе пальцы на руках, а то и целиком кисти. Глотать что попало и загибаться от боли в желудке. Кое‑кто имел свя. чч на воле. Посредством этих связей старались избавиться от «чести» попасть в этап на Колыму. Наиболее подлые продавались начальству с потрохами, становились суками
Два битюга подступились к Павлу с намеками избавить его от этапа взамен на любовь. Информация Мордвинова подтвердилась. Павел ждал неприятности, но ни за что не думал, что она грянет с таким вот подходом. Неужели они имеют какое‑то влияние на начальство?! Выходит — имеют. И здесь действовал, и некие тайные пружины бытия.
Этап формировали крупный. Формировали спешно. Перед каждым киносеансом начальник лагеря выступал с разъяснением положения в стране: «Идет восстановление народного хозяйства. Страна напрягается изо всех сил, старается, чтоб люди зажили нормально. Нужен лес, золото, уголь, хлеб, нефть… Именно за лес и золото Запад дает нам продовольствие и оборудование. Вы должны понимать, что государство решило так не из желания наказать когото, а по жестокой необходимости…»
На Павла действовали его речи. И он готов был откликнуться на призыв начальника лагеря. Он понимал, что стране действительно трудно сейчас. Еще идет война, люди гибнут на фронте. А здесь… Они жрут, пьют, на нарах отсыпаются. Да еще под охраной. И при этом стараются увильнуть от работы. Стыдно должно быть!
И он был не один такой, сознательный. Кроме гражданского сознания, душа его протестовала против самоличного членовредительства. И как это так — взять и отрубить себе палец или руку?! И походатайствовать за него на воле некому — у него там никого кроме старенькой матери в станице Динской, Как она там? Жива ли? И еще о Евдокии с малышкой думал. Когда он думал о Евдокии, на душе возгоралась тихо надежда на что‑то. И он мечтал, вот когда выйдет из лагеря, обязательно отыщет их. Зачем, он не знал, но ему очень хотелось отыскать их потом. Эти мысли были некой опорой в его существовании.
Читать дальше