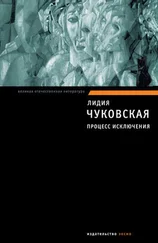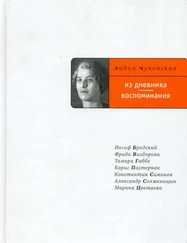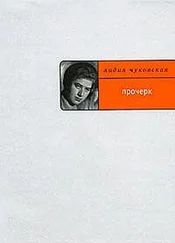Лидия Чуковская - Борис Житков
Здесь есть возможность читать онлайн «Лидия Чуковская - Борис Житков» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Публицистика, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Борис Житков
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Борис Житков: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Борис Житков»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Борис Житков — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Борис Житков», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
«…Идеологически и художественно точное изображение нашей действительности в литературе, — писал М. Горький, — повелительно требует богатства, простоты, ясности и твердости языка»; «для писателя „художника“ необходимо широкое знакомство со всем запасом слов богатейшего нашего словаря и необходимо уменье выбирать из него наиболее точные, ясные, сильные слова». Мнимые защитники чистоты языка желают помнить из этих двух знаменитых формул только определение «чистый», упорно, нарочито забывая об определениях «богатый», «сильный»; под словами же «чистый» критики-педанты и редакторы, лишенные слуха, разумеют не меткость языка, не его гибкость или точность, а попросту отсутствие в тексте выражений и слов, неупотребимых в их собственном скудном словесном хозяйстве, или же тех, которые, будучи взяты сами по себе, отдельно от текста, вне идейной и художественной задачи, звучат грубовато.
Такие критики, редакторы, педагоги любят повторять, что Пушкин, Грибоедов, Некрасов, Крылов учились языку у народа и вносили в свои произведения обороты живой устной речи, но на деле всякую попытку писателя обогатить книжный язык этими оборотами встречали и встречают с недоумением и протестом.
«У тебя на это духу не хватит», — написано в рукописи. «Ты не решишься», — поправляет педант, уверенный, что он борется за чистоту языка, а в действительности способствуя его оскудению. «Седая щетина», — пишет автор. «Седые волосы», — возражают ему. А такие меткие народные слова, как, например, «недолюдки» или «опростоволосился», повергают глухих педантов в отчаяние. Не сказать ли вместо «недолюдки» — «не совсем люди», а вместо «опростоволосился» — «ошибся»? Разумеется, вводить разговорную речь в литературу следует умеючи, со всей осторожностью и ответственностью, чтобы уберечь такое драгоценное орудие, как литературный язык (то есть язык отборный, столетиями вбиравший из народного только самое точное, выразительное, поэтическое), от возможности его засорения. Отбор этот требует чуткости, познаний, вкуса, высокой культуры и верности «духу языка». Иначе случается, что сорняки остаются, а злаки выпалываются. Такие уродливые порождения канцелярии, как «недопонимать», проникают в литературу, а слова, заимствованные из основного словарного фонда, как, например, «перемахнул» или «улепетнул», точные и выразительные, находятся под подозрением. Не педагогичнее ли и не благопристойнее ли будет «перепрыгнул» или «убежал»? В рецензии на сборник Житкова «Рассказы о технике» рецензент протестует против употребления таких, по его мнению, «псевдонародных» слов, как «скачет» или «пропихнуть».
Фраза Житкова заимствовала из народной речи не только словарное богатство, энергию, краткость, но и удивительную конкретность, зримость. Его стиль вполне удовлетворяет требованию, выдвинутому А. Н. Толстым: «строя художественную фразу, нужно видеть нечто». Строя художественную фразу, Житков безусловно видел движение своих героев — людей ли, животных ли, — именно видел и искал подходящего слова, чтобы как можно точнее это движение воспроизвести. В описании борьбы мангуст со змеей каждая фраза с точностью воспроизводит движение. Эпитетов почти нет — ведь речь здесь идет о напряженной борьбе, и потому основную нагрузку несут на себе глаголы, точно воспроизводящие действие. «Змея извивалась, рвалась, она стучала мангустами по палубе»… «А там, на палубе, все еще молотили змею».
Меткость в передаче явлений внешнего мира — действий, лиц, предметов сочеталась в произведениях Житкова с меткостью в изображении мира душевного, внутреннего. Если бы он с точностью умел говорить только о том, как плотник вгоняет гвоздь в бревно, и о том, как лопается, поднимаясь, морская зыбь, и как на палубе молотили змею, если бы это была точность только внешняя, только предметная, если бы она не была соединена со столь же меткой передачей движений души, — рассказы Житкова не имели бы ни впечатляющей, ни воспитательной власти. Но меткость не покидала Житкова и тогда, когда он от описания внешних движений переходил к движениям душевным, внутренним. Душевный мир мальчика, героя рассказа «Дяденька», пережитые им чувства ненависти, страха, нежности, радости изображены Житковым с не меньшей точностью, чем работа воздушных молотков, которыми орудуют на судостроительном заводе мастеровые. Чувства и мысли деревенского мальчика, героя рассказа «Метель», переданы с не менее достоверной точностью, чем все перемены лошадиного шага — то дробного по накатанной, ровной дороге, то мягкого — когда лошади ступают по брюхо в снегу. Точно описан летящий снег, звон бубенцов, укутанный в чужую шубу Митька. Доверие читателя завоевано. И потому читатель верит и мыслям и чувствам героя даже тогда, когда они сложны, противоречивы, тонки: то ему хочется ехать, то он боится, раскаивается, что поехал, то раздражен против своих седоков, то готов отдать за них жизнь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Борис Житков»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Борис Житков» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Борис Житков» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.