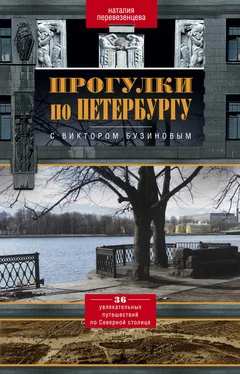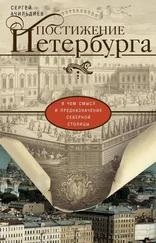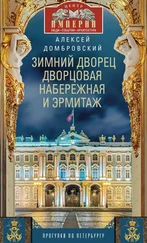Приморская железная дорога. Вокзал в Санкт-Петербурге. 1900-е годы
2 декабря 1909 года Петр Александрович скончался. На следующий день его тело было доставлено на Приморский вокзал и там, в присутствии всех свободных от работы служащих Приморской железной дороги, совершена лития. Затем специальным поездом гроб с телом Авенариуса привезли в Дюны и похоронили на кладбище при церкви Христа-Спасителя.
С того места, где когда-то находились церковь, кладбище и могила Петра Александровича Авенариуса, хорошо видна Приморская железная дорога…
После того, как передача вышла в эфир, мне позвонил один из слушателей и рассказал, что он совсем недавно видел расколотую надгробную плиту с могилы Петра Авенариуса. Корю себя за леность, за то, что так и не удосужилась проверить это.
«Лахта – одно из древних поселений на берегу Финского залива. Оно существовало задолго до основания Петербурга. Это название представлено на старинных русских картах XVIII века. Само слово „лахта“ финского происхождения и буквально обозначает „залив“, „бухта“. Действительно, селение Лахта возникло близ мелководного залива, в который впадали речки Юнтоловка и Глухая (Каменка)» ( К. С. Горбачевич, Е. П. Хабл о. Почему так названы. 1985).
«С запада к Лахте примыкает Ольгино, и оба поселка представляют, по сути, единое целое, так что иногда, называя один, имеют в виду другой, или же и тот, и другой одновременно» ( И. Богданов . «Лахта – Ольгино». 1999).
На современных картах Лахта – это название муниципального образования (бывшего поселка) и железнодорожной станции. Есть еще Лахтинский разлив, глубоко врезающийся в сушу, и Лахтинский проспект. Но ни на одной карте не обозначено, что Лахта расположена на берегу Маркизовой лужи.
Маркизова лужа – часть акватории Финского залива от устья Невы до острова Котлин. Таким забавным названием мы обязаны морскому министру Жану-Франсуа де Траверсе, при котором русский флот (вернее, то, что от него оставалось) за Котлин не заходил. Ничем больше в морской истории России маркиз не прославился, разве что стал героем исторического анекдота.
В приемную министра явился старый моряк, хлопочущий о пенсии для детей своего погибшего сослуживца. По каким-то причинам маркиз отказал ему, но моряк упорно продолжал приходить на прием каждый день. После второго или третьего отказа импульсивный (как все французы!) де Траверсе разгневался и влепил надоедливому просителю пощечину. Старый морской волк со слезами на глазах стойко перенес оскорбление и только спросил: «Ваше высокоблагородие, это мне, а что же сиротам?». Сентиментальный (как все французы!) де Траверсе устыдился, обнял моряка, и пенсия была тут же назначена.
А задолго до переменчивого маркиза существовало в этих местах Литориновое море, сменившееся впоследствии Древне-Балтийским. Оно покрывало все острова, на которых стоит Петербург, Ораниенбаум, Петергоф, Стрельну, Лахту, Лисий Нос и Сестрорецк. Береговые валы этого моря еще можно разглядеть вдоль побережья Финского залива. Теплое мелководное море, обилие рыбы «…вследствие слабой солености Финского залива в нем живут рыбы проходные или такие, которые с одинаковым успехом живут и в соленой, и в пресной воде; таковы килька, ряпушка, корюшка, невский сиг, салакушка, – случайная гостья – треска и т. д.» [89]– что еще надо человеку, чтобы освоиться на прибрежных землях. Он и осваивается – несколько стоянок первобытных людей найдено и в самой Лахте, и в ее ближайших окрестностях.
Первое упоминание деревни Лахта относится к 1500 году, и до начала XVIII века жизнь местных обитателей текла по веками заведенному порядку. Хоть и переходили эти земли из рук в руки, но рыба ловилась, птица водилась, небогатая почва исправно давала урожай. Но вот, проехал по берегу залива Петр Великий, основал Сестрорецкий завод, не забыл и Лахту: неподалеку у небольшой деревушки Верпелево посадил дубовую рощу и приказал построить деревянный домик – усадьбу «Ближние Дубки». Много позднее остатки этой рощи запечатлел на своих полотнах «Дубовая роща на Лахте» и «Дубки на Лахте» Иван Иванович Шишкин.
Одно из деревьев, связанных с именем Петра Великого, конечно, знаменитый петровский дуб на Каменном острове. Он погиб от старости совсем недавно, но на его месте уже зеленеет молодое деревцо, выращенное из желудя того, прежнего дуба. А вот второе дерево – лахтинская сосна – простояло боле 200 лет и погибло в страшную бурю 1924 года. Эту сосну называли «единственным свидетелем подвига Петра». Считается, что в ноябре 1724 года яхта Петра попала возле лахтинского берега в жестокий шторм. Ей пришлось стать на якорь, чтобы переждать непогоду. Вдруг неподалеку заметили севший на мель бот с матросами и солдатами. Петр отдал приказ – идти на помощь, и сам, стоя по колено в ледяной воде, возглавил спасательные работы, сильно простудился и вскоре умер. Историки считают, что достоверность легенды сомнительна – она окончательно оформилась только спустя полвека после события. Впрочем, зная характер Петра…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу