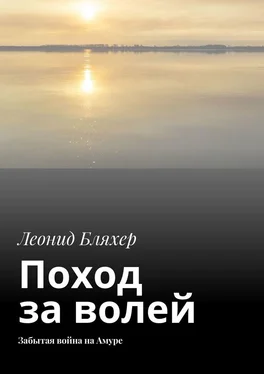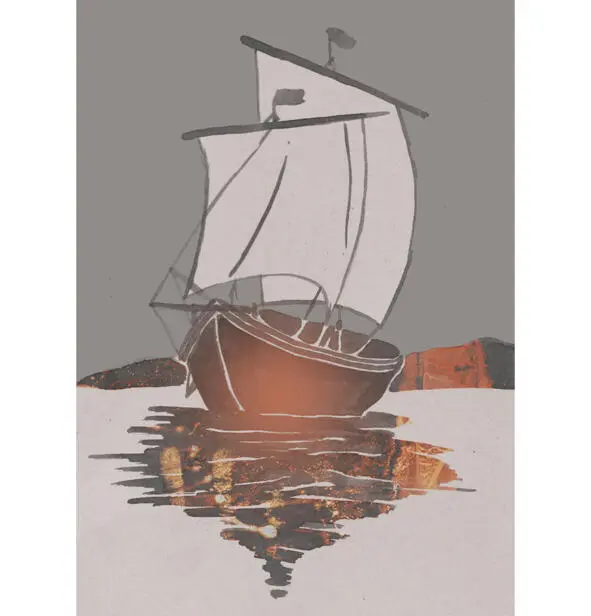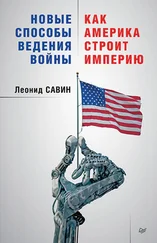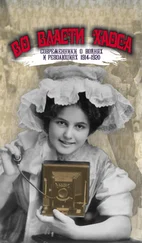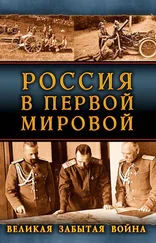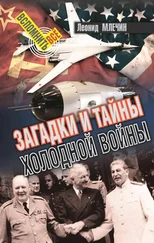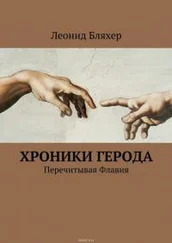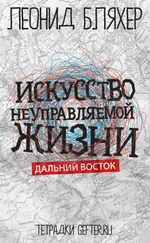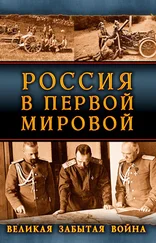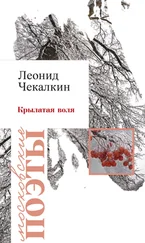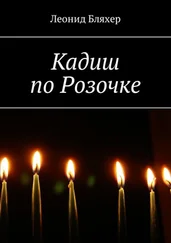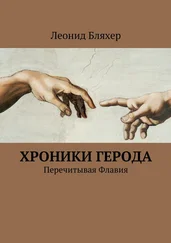Похоже, что идея «Новой Мангазеи», новых богатых пушных промыслов пришлась при дворе по вкусу. Сам же Хабаров приобрел столичных покровителей, заинтересованных в его путешествии на новые земли. Во всяком случае, дальнейшие события делают наиболее вероятным именно этот вариант. Он спешно собирается в новый поход. На этот раз навсегда.
Не нашлось свидетельств того, как добирался он в Сибирь. Известно только, что нанял он – то ли в Тобольске, то ли дальше, в Енисейске – три десятка покрученников. С ними и отплыл на большом судне, коче, которое могло и под парусами идти, и на веслах. Плавали такие корабли по рекам и даже по морям. Главным же его достоинством для Сибири была легкость конструкции, позволяющая между реками перетаскивать судно волоком.
Шел он не привычным северным путем, который еще по воле воеводы Палицына был проведан из Мангазеи (опустела к тому времени Мангазея, погубила ее воеводская война, а царский запрет на плавания по северным морям и вовсе вбил в гроб ее последний гвоздь). Шел он через Нижнюю Тунгуску, Илим и реку Куту. С выходом на среднее течение Лены. Шел не один. С ним шел знаменитый уже к тому времени на всю Сибирь атаман Иван Галкин со своим отрядом. Точнее будет сказать, что с отрядом Галкина шел Хабаров со своими людьми. Хотя план освоения привез Хабаров (как и согласие на него от столичных властей), властью в походе был именно Галкин. С отрядом Ивана Галкина и покорял Хабаров приленские земли, воевал с «немирными инородцами», учился дружить с врагами тех, с кем воевал, а порой спасал попавшего в засаду атамана. Там, на Лене, и осел. На Лене он и начинает уже привычный промысел.
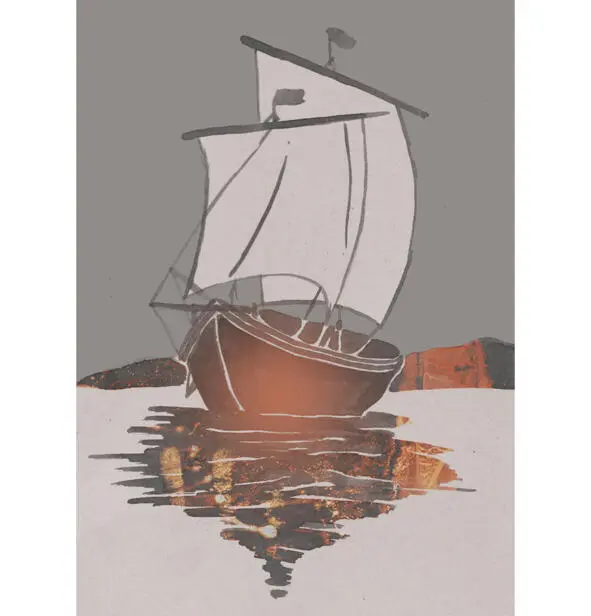
Сибирский коч
Частью меха добывались охотой, частью их скупали у местных жителей, меняя на русские товары. А где-то и силой забирали, если плохо лежало. В те времена такой поступок был нормальным. Построили укрепленное зимовье, тоже типа крепости, но поменьше и без крепких стен. Чтобы представить себе такое укрепленное зимовье, вспомните форт, который в «Острове сокровищ» защищают от пиратов друзья Джимми Хокинса. Словом, зажили.
Что-то даже в казну сдавали, чтоб не обижать, да официальную грамоту иметь на меха. Но большая часть добытого добра шла, конечно, мимо государевой таможни, привычным для Поморов северным путем.
Младший брат, Никифор, доставлял товары « из русских земель ». Ерофей Хабаров эти товары менял у местных людей на меха, которые мимо государевой таможни шли в западном направлении. Любезный друг Иван Галкин, который долгое время был на Лене главным государевым человеком, ему помогал. Сам оповещал местных инородцев и промышленных людей, что Хабаров больше, чем казна платит.
Так и шли дела. Никифор русский товар на Лену поставляет. Ерофей здесь его на меха меняет, да назад с братом отправляет. И народ ленский доволен. Получает он по честной цене топоры, скобяной товар, шерстяные ткани. А где-то – оружие и порох, поставляемые мимо царских и воеводских застав. И Галкин с Хабаровыми совсем не в убытке.
Однако такая совсем вольная жизнь продолжалась недолго. Осенью 1632 года на Лену приходит новая власть. Казачий отряд под командованием знаменитого сотника Петра Бекетова основывает Ленский острог. Иван Галкин со своим отрядом отбывает в южном направлении. Острог основывался не на пустом месте (острогов, которые строились с нуля, в Сибири было немного). Здесь располагалось Ленское плотбище – место, где строились и чинились суда для плавания по Лене. Был и небольшой, построенный на скорую руку, городок. Но то поселение было вольное, состоящее из охотников и промышленников.
Теперь же был поставлен государев острог. А там, где острог, сразу строилась таможня, появлялись запреты, мзды, поминки и прочие атрибуты «цивилизованной жизни». Однако пока это, хоть и власть, но своя, сибирская. С ней и договориться можно. Петр Бекетов, хоть сотник и сын боярский, однако человек с пониманием. Договариваются и братья Хабаровы. Московская, воеводская власть пока в далеких разрядных (столичных) городах Енисейске и Томске. С этой властью не договоришься. По крайней мере, гораздо труднее и дороже.
Но Хабаров понимал, что долго он на пушнине не продержится, ведь государь объявил весь пушной промысел государевой вотчиной. Промысел Хабаровых, хоть и выгодный всем, а совсем незаконный, «воровской». Промышленные люди должны были сдавать меха в казну по цене, какую им укажут. Как правило, цена эта была, как ни удивительно, раза в два ниже, чем та, за которую торговали сами промышленники, и раз в десять ниже, чем за меха платили в Архангельске. И за то было им от государя « милостивое государево слово ».
Читать дальше