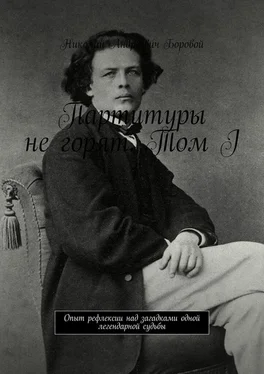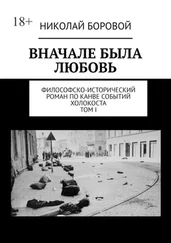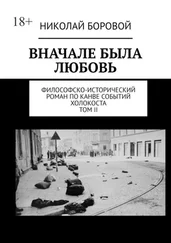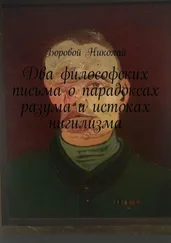Однозначно – использование «национальных» элементов обусловлено здесь ощущением выразительных возможностей таковых, их способности послужить выразительности музыкальных образов и тем, а не целью придания музыке какой-то «национальной характерности». Выпуклой и структурно концептуальной «национальностью» в этих концертах обладают темы из третьих частей: в скрипичном мы имеем дело с «плясовыми народными ритмами», ставшими основой темы, в ф-нном – с «народными» ритмами и принципами «народной» мелодики, сформировавшими обе взаимодействующие темы части.
Причем «национальные» элементы здесь концептуальны и в отношении к структуре музыкальных тем, и в отношении к их симеотичности и смысловой выразительности, и потому – не довлеют и не являются «самоцелью», не выступают чем-то «самодостаточным», собственно – речь идет о совершенном примере того, чем в самом подлинном и лучшем смысле должна быть «русская», то есть национально идентичная музыка, пусть даже и в той модели, в которой такая «идентичность» музыки сведена к аспектам «стилистики» и «языка форм». Вообще – «национальное» в музыке Чайковского никогда не является тем, «во имя чего» создается музыка, тем «главным», что должно быть выражено, воплощено и воспринято в ней, таковое выступает лишь языком и средством выражения, используется в его выразительных возможностях и лишено какой-то эстетической «приоритетности» и «самодостаточности». В целом – это соответствует как «романтической» парадигме музыкального творчества в принципе, так и характерному для «романтической» эстетики отношению к использованию «национальных» музыкальных элементов. Композитор вообще очень редко преследует «национальное своеобразие» музыки в качестве «программной» и «всеобъемлющей» цели, обращается к нему тогда, когда оно сочетается с целями выражения, с органичным ощущением выразительных возможностей соответствующих форм. В музыке Чайковского мы всегда слышим – целью ее создания является самовыражение, ее образы пронизаны и дышат самовыражением, его мощью и поэтикой, таковое отчетливо слышится тем глубочайшим порывом, который привел к творчеству музыки, обусловил рождение музыкальных образов как «языка» для чувств и настроений, мыслей и самых разных и многогранных смыслов, философских прозрений и обобщений. В музыке «русских корифеев» мы с первых звуков слышим нередко разочаровывающее – целью ее создания является «национальное своеобразие», ибо ничего, кроме этого «своеобразия», в ней как правило не выражено и не звучит, часто она предстает восприятию лишь как характерная, фольклорно-национальная и неизменная из произведения к произведению, от автора к автору «стилистика», в служение которой превращено музыкальное творчество. Увы – «народность» и «национальное своеобразие» мы слышим как правило тем, что представляет в этой музыке высшую ценность, выступает высшей целью музыкального творчества. Еще точнее – «национальный музыкальный характер» и воплощение такового предстают в этой музыке тем, что обладает высшей эстетической ценностью и служит целью ее творчества.
Ведь наличие или отсутствие в музыке глубоко понятого и достоверно воплощенного «национального своеобразия», является на протяжении чуть ли не всей истории русской музыкальной эстетики основным критерием художественной оценки музыкальных произведений и ключевым срезом профессиональной музыковедческой рефлексии – о подобной абсурдной ситуации речь пойдет чуть ниже. Вот, начинает звучать второй ф-нный концерт С.Франка – «ординарно романтическое» с точки зрения стилистики произведение, и с первых же звуков слух и восприятие захватывает волна мыслей, чувств и мощных настроений, выражением которых дышит и пронизана эта музыка, потому что глубина, правда и поэтическая вдохновенность самовыражения в принципе являются целью ее творчества, и точно так же это в произведениях Бетховена и Шопена, Мендельсона и Брамса, Сен-Санса и Дворжака, однако в наполненной выпуклым, маслянистым «национальным своеобразием» музыке Корсакова и Бородина, Мусоргского и Балакирева, не так уж часто возможно расслышать
внятную выраженность чего-то , обнаружить что-то кроме конечно же самого «национального своеобразия», довления и игры связанных с ним «форм». При всей «фольклорной» живописности и достоверности образов бородинских симфоний, достоверности в этой музыке как такового «национального своеобразия», при «общей красивости» и «ладности для слуха» ее построенных в «национальном» ключе тем, в ней очень сложно обнаружить ту глубину и поэтику самовыражения, которой дышат нередко самые рядовые «романтические» произведения этого периода и жанра. В
Читать дальше