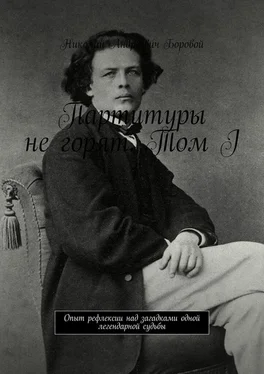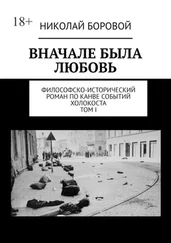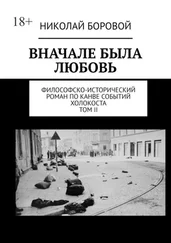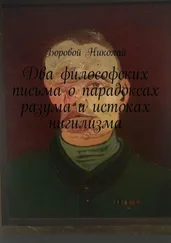О чем возможно дискутировать, если в музыкальном произведениии интересует не суть выраженного, не суть и реализованность замысла, не символизм и художественно-смысловые коннотации образов и тем – как это должно быть в принципе, при грамотном подходе и профессиональной рефлексии, ведь именно таков общий и фундаментальный подход к оценке любых художественных произведений – а созданность в нем «русской», достоверной в ее «национальном своеобразии» музыки, стилистика которой воплощает такое «своеобразие» убедительно, соответственно некоторым канонам? А не проистекает ли подобная уплощенность и сниженность подхода в рефлексии и оценках, из принципиальной для русской музыки и музыкальной эстетики уплощенности и сниженности определяющих целей музыкального творчества, из сведенности таковых к созданию «национально своеобразной» музыки, достоверной в ее «национальном характере» и воплощающей такой «характер» стилистике? Вот в «тех» произведениях композитор не сумел создать по-настоящему «русской» музыки, достоверной в ее «национальном своеобразии», в воплощающей такое «своеобразие» стилистике, а вот в «этих» – более-менее «сумел», как будто бы в подобном состоит цель музыкального творчества, как будто такая узкая и вторичная по сути цель, правомочна его определять. Однако – именно это интересует в произведениях композитора и служит основным параметром их профессионально-музыковедческого осмысления и оценки, к этому в целом сводят дискуссию о музыкальном наследии Рубинштейна и оценку такового, и поскольку «национальная» стилистика никогда не была единственным и доминирующим языком художественного и творческого самовыражения композитора, а создание «национально своеобразной» музыки не являлось для него высшей и определяющей музыкальное творчество целью, поскольку «национальные» элементы и формы используются им как язык выражения, а не являются чем-то «самодостаточным», звучат поэтому не «довлеюще», «поглощая» собой музыкальную ткань, но оставляя в ней место для выраженности смыслов и настроений, то наследие композитора признается «чуждым» русской музыкальной культуре и лишенным эстетической ценности. Оказывается, вся цель музыкального творчества состоит в создании музыки не смыслово выразительной, не символичной, поэтичной и совершенной как язык и способ самовыражения, как способ художественно-философского осмысления мира и диалога о «главном» и «сокровенном», а достоверной в ее «национальном характере и своеобразии», «стилистически своеобразной» и за счет этого «национально идентичной», по крайней мере – такой мыслится высшая цель музыкального творчества для «русского» композитора. Логика «профессионально-музыковедческих» суждений в оценке этого и многих иных произведений Рубинштейна, его наследия в целом такова, они сведены к подобным позициям, что в отношении даже к самым общим принципам оценки любых художественных произведений предстает абсурдом, уплощением и снижением подхода, чем-то, обусловленным «сторонними» и иррациональными факторами. В композиторском наследии Рубинштейна интересуют не смысловая выразительность и поэтическая вдохновенность музыки, не ее символизм и глубина, не ее способность нравственно и эстетически воздействовать на слушателя, не совершенная подчас превращенность музыки в «речь» сложных философских мыслей, глубоких нравственно-личностных переживаний, а только одно – созданность достоверной в аспекте «национального своеобразия» музыки и мера наличия таковой, и конечно же – в подобном подходе состоит нечто неприемлемое и абсурдное, вопиюще противоречащее самым общим и ключевым принципам оценки любых художественных произведений. Все означенные особенности и достоинства созданной композитором в самые разные периоды и в разных стилистических ключах музыки, попросту не воспринимаются, не «различаются» и не «слышатся», ибо в музыкальном творчестве и наследии интересует только одно – творчество в «национально своеобразной» стилистике, ибо «обобщенная», «национально отстраненная» и «универсально-романтическая» стилистика в принципе обусловливает отторжение музыки, барьеры «не восприятия» музыки, обесценивает таковую. Как не пытались бы лицемерить, но для русской музыки и музыкальной эстетики, в «титульности» таковых, всегда во главе угла стояли «вопросы стилистики», что обусловливалось наиболее глубинными и фундаментальными причинами, особенностями и противоречиями русского эстетического сознания в том, как оно сформировалось – высшая цель музыкального творчества мыслилась в «национальном своеобразии» музыки, концепция «русской», «национально идентичной и сопричастной» музыки, удовлетворяющей национальному самоощущению общества, сводилась к музыке «стилистически своеобразной и ограниченной», выстраиваемой на принципе «фольклорности», замкнутости на определенном языке форм. Отсюда, именно отсюда проистекает та ситуация, когда «стилистическое» становится «кумиром», ключевым параметром художественной рефлексии и оценки, чем-то чуть ли не единственным, что вопреки всем общим принципам художественно-эстетической рефлексии, фокусирует внимание при оценке музыкальных произведений и в целом наследия Рубинштейна, десятилетиями превращавшегося в «жупел», в символичную «антитезу» всему якобы «подлинному» и «художественно прогрессивному» в русской музыке. Обычно, в отношении к самой разной бетховенской музыке, много и по-справедливости рассуждают о прорывах чисто «композиторского», творчески-музыкального мышления, о гениальном обнаружении новых и широчайших возможностей уже якобы «устоявшихся» музыкальных форм, еще более – о воплощенности в музыке Бетховена «ментальности» и «духа», симеотики сознания и экзистенциальности романтизма, о как таковой «стилистике» говорят достаточно редко, хотя с этой музыкой связан стиль «классического» романтизма, а если уже говорят, то именно в том срезе, что поиском «прекрасного» в диссонансном, трагическом и драматически-напряженном, композитор раскрывал и утверждал «красоту» музыки как наличие, ясность и совершенную выраженность в ней смысла, какой путь не вел бы к таковому (знаменитые дискуссии вокруг квинтетов в последних опусах композитора). Все так – «красота» музыки для Бетховена связана не с аспектом «стилистики» и «формы», не с «ладностью для слуха» и «гармоничностью» музыкальных форм и как таковой музыки, «красота» для него – смысловая содержательность и выразительность музыки, ее поэтичность, символичность и совершенность как языка выражения, как способа художественно-философского осмысления мира, существования и человека, разворачивания философских мыслей и вообще философствования: мы слышим это в музыке композитора, в том, чем его музыка по сути является. Красота как символизм, смысловая содержательность и выразительность музыкальных образов, как поэтика и правда экзистенциально-философского самовыражения – об этом говорят нам темы «Героики» и Пятой симфонии, «ординарнейшие» по стилистике образы «Аппасионаты» или сонаты N 14, темы Третьего, Четвертого и Пятого ф-нных концертов. О этом говорит нам удивительный образ-символ из финальной части Пятой симфонии – оркестрово воплощенный «порыв ветра», сметающий на своем пути все преграды и своей мощью уносящий к свету, надежде, торжеству воли и идеалов, который конечно же предстает художественным экстазом и упоением философской веры композитора в прогресс, ждущий и неотвратимый невзирая ни на что, грядущий вопреки всем испытаниям и противоречиям, как нечто неотделимое от власти и потрясений «судьбы», «объективной исторической закономерности», знаменитым «голосом» которых начинается произведение. Однако, возможно ли представить, чтобы дискуссии вокруг чисто «стилистических» моментов и вопросов, поглощали в общем дискурсе о бетховенской музыке вопросы о философской, художественно-смысловой коннотации произведений и их образов, о глубине и совершенстве самовыражения в ней, о наполняющей ее трагической патетике философского и личностного переживания мира, судьбы человека в мире? Возможно ли представить, что вопросы «стилистики», а не философский символизм музыки, не совершенная воплощенность и выраженность в ней философских смыслов, не ее художественно-смысловые коннотации, не ее художественный замысел и уровень его реализации, доминировали бы в обсуждении, скажем, таких симфонических поэм Листа, как «Прометей», «Гамлет», «Фауст»? Конечно же нет. Абсурд состоит в том, однако, что именно таков подход в «профессиональной» рефлексии и навязываемых ею оценках, точнее – его мы обнаруживаем в оценке и осознании композиторского наследия Рубинштейна в пространстве русской музыкальной эстетики чуть ли не на протяжении полутора веков, когда суждения современных музыковедов лишь вторят устоявшимся еще во второй половине 19 века и прошедшим «огранку» в советский период предрассудкам. Абсурд в том, что музыкальное творчество предстает из этого «упражнениями» в построении и использовании определенной, «национально своеобразной» стилистики, в создании «стилистичной», обладающей «национальным своеобразием» музыки, что в «национальном своеобразии» музыки видится его всеобъемлющая цель. Все так – не творчеством символичных, смыслово выразительных и объемных, выступающих как язык экзистенциально-философского диалога и художественно-философского осознания мира образов, а как «упражнение в определенной стилистике», создание музыки, основной особенностью и принципом которой является ее «стилистичность», ее «национальное своеобразие». Все это так именно потому, что «русская» музыка – это «стилистика», концепция «стилистически своеобразной и ограниченной музыки», созданной определенным «языком форм», еще точнее – это концепция замкнутости музыкального творчества на определенном «языке форм», его возможности только в русле ограниченной, «фольклорно-национальной» стилистики. Все это так потому, что в концепции «русской» музыки, национальная идентичность и сопричастность музыки сводятся к ее «стилистической своеобразности и определенности», что становится не просто стилистической, но и сущностной ограниченностью музыкального творчества, противоречием между «национальным» характером музыки как творчества и искусства, и ее сущностной экзистенциальностью, общечеловечностью, общекультурной вовлеченностью, обусловленными подобным горизонтами эстетических целей и идеалов, сюжетности и т.д. Все это так, потому что национальная идентичность и сопричастность «русской» музыки была помыслена не через воплощенность в ней «национального духа и характера» как такового, не через ее вклад в осмысление и реализацию сущностных целей и идеалов музыкального творчества, а через ее «национально-стилистическое своеобразие»: отсюда проистекают не только стилистическая, но и сюжетно тематическая, художественная ограниченность и замкнутость, враждебность к «стилистически иному», наконец – абсолютизация вопросов «стилистики и форм», обретение ими сущностного значения, их постановка во главу угла музыкального творчества, художественной рефлексии и оценки. Все требования писать «русскую» музыку, никогда не были ничем иным, кроме как установкой на создание «стилистически своеобразной и ограниченной» музыки, замкнутой на тех национального плана сюжетно-тематических горизонтах, которые оправдывают подобное «стилистическое своеобразие», его всеобъемлющее довление в музыкальном творчестве, не угрожают отдалением от него. Кроме того – музыки «стилистичной», в которой вопросы «стилистики» и «форм» обретают сущностное значение, довлеют над целями и идеалами самовыражения, художественно-философского осмысления мира, философско-поэтического символизма, основной особенностью и «достоинством» которой, собственно, являются именно «своеобразие стилистики» и «национальная характерность». Абсурд в том, наконец, что на длительный период музыкальное творчество в пространстве русской национальной музыки превращается во все «это» – в упражнения по построению, развитию и использованию определенной стилистики, что подобное действительно становится для него «высшей» целью. Абсурд – в попытке считать, что художественный замысел музыкального произведения может и должен состоять в опробовании определенной стилистики, в создании не смыслово выразительной и символичной, не вовлекающей в диалог об определенных смыслах, чувствах, идеях и т.д. музыки, а музыки, «стилистически своеобразной», и за счет стилистики «национальной». Так не в том ли дело, что не выражение определенных смыслов, не экзистенциально-философский диалог, не символизм образов видятся целью музыкального творчества, а именно создание «стилистически своеобразной» и «характерной музыки», национально идентичной за счет стилистики и удовлетворяющей национальное самоощущение? Так не в том ли дело, что цель действительно видится не в музыке, выражающей что-то, пусть даже в ключе «национальной» стилистики, в адекватном обращении к ней как средству выразительности, а в музыке «стилистичной», «стилистически своеобразной и определенной»? Так не в том ли дело, что создание «стилистически своеобразной» музыки, достоверной в ее «национальном своеобразии», в воплощающей такое «своеобразие» стилистике, очень длительный период действительно является застилающей эстетические горизонты и довлеющей целью? Не оттого ли достоверность «национально-стилистического своеобразия» музыки и доныне, в «профессионально- музыковедческом» взгляде на художественные явления прошлого, выступает «камнем преткновения», основным параметром художественной рефлексии и оценки?
Читать дальше