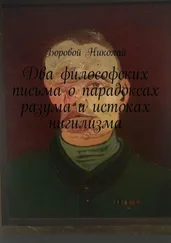. Все же – ценность и значение национального искусства определяются его вкладом в решение эстетических задач именно подобного порядка и уровня, его служением той копилке экзистенициально-философских откровений и собственно «эстетических» прорывов, которой и являются культура и искусство в целом. А ведь в «стасовской эстетике», как доминирующей, и выражающей глубинные культурные и общественные тенденции в России в.п.19 века форме эстетического сознания, поиск и воплощение «национального своеобразия и характера» музыки выступали в качестве довлеющей и «самодостаточной» эстетической цели, причем само это «своеобразие» превалирующе понималось в аспекте общей художественно- музыкальной формы, как концепция стилистики.
В произведениях композиторов-«кучкистов» практически невозможно обнаружить «романтической» экзистентности и субъектности музыкального творчества, свойственной «романтической» эстетике правды и мощи самовыражения, экзистенциально-философской наполненности. Да – мы слышим «национальное своеобразие и богатство» музыкальных образов, их соответствие разрабатываемым сюжетам, их нередко «вообще народную и лиричную красивость», однако всего означенного – трагической вдохновенности и экзистентности, обращенности к личности и пронизанности правдой и мощью ее самовыражения, экзистенциально-философской наполненности – как правило нет, и расслышать в музыкальных образах «речь» и «язык» смыслов, ощутить в их рождении единый акт творчества и самовыражения, опосредования экзистенциально-философских смыслов, как в масштабнейшем наследии романтической музыки, зачастую невозможно. Увы – музыку Мусоргского, Корсакова и Бородина не слушают для того, чтобы пережить экзистенциальное потрясение, вот тот самый пресловутый «катарсис», то есть посреди всепоглощающей власти обыденного «проснуться» и вернуться к себе, к собственной экзистентности, к трагизму и ценности существования, а музыку Рубинштейна, Чайковского и Рахманинова слушают зачастую именно для этого, она обладает нравственной и эстетической силой «пробудить» и «возродить», очеловечить и изменить человека. Той загадочной возможности музыки выражать глубину экзистенциальных переживаний и вовлекать в них, делать сопричастными им, которую Л.Толстой так трагически, вплоть до возмущения и потрясения от способности музыки «воздействовать на душу», ощущал в «Крейцеровой сонате» Бетховена, практически невозможно встретить в музыкальных произведениях композиторов-«кучкистов», корифеев «русской музыки». В конечном итоге, и «национальное своеобразие», доминирующее как цель и художественный язык, становится «штампом», который убивает движение творческой мысли и правду всякого творчества как акта экзистенциально-философского самовыражения, и попытка спасти музыкальное творчество от «опошления» за счет превалирующего внимания к «национальному своеобразию» языка музыкальных форм, становится лишь
пошлостью иного рода . В самом деле – почему композитор, владея «национальным» музыкальным языком, должен писать и «говорить»
только им, почему он должен быть замкнут на овладении и творчестве этим языком как на доминирующей эстетической цели? Почему это должно отдалять его творчество о тех эстетических целей и горизонтов, которые связаны с «универсальностью», экзистенциальностью и «общекультурностью» музыкального творчества, включенностью такового в поле общечеловеческих исканий и свершений духа?
Почему национальная специфика музыки должна преимущественно пониматься как «своеобразие формы и языка», почему она должна звучать именно своеобразием стилистики, используемых в творчестве музыки «архаичных» фольклорных элементов, а не «духом» как в данном случае совокупностью воплощенных в музыке нравственных, ментальных и экзистенциальных состояний, или не концептуальной подчиненностью музыки эстетическим горизонтам «экзистенциального» порядка, как в европейских школах музыки? Ведь даже корифеи советского музыковедения, под микроскопом профессиональной рефлексии измеряющие достаточно ли «русскую» музыку писал Рубинштейн, и насколько часто ему это удавалось (как будто этим в принципе можно «измерить» эстетическую ценность наследия композитора), в основном ведут речь о лишь о прочувствовании и воплощении композитором определенных музыкальных форм, к которым сводятся национальный характер и «дух» музыки, ее национальная сопричастность и «идентичность». А ведь немецкую музыку 19 века мы как правило распознаем по глубинным художественным особенностям, по духу трагического экзистенциально-философского пафоса и лиризму «романтического самовыражения», по «эталонному» воплощению в ней идеалов, творческих целей и горизонтов романтизма, наконец – по той совокупности свойств композиции и структуры, творческих методов и подходов, которые объемлемы понятием «школа». Французскую музыку 19 века мы распозанем в основном по ее вкладу в достижение идеалов и художественно-эстетических горизонтов романтизма в целом, по особенностям школы, по ее увлеченности национально иными, нежели «французские», музыкальными формами, и вопрос о том, что же «национально французского» в «Испанской сюите» Лалло или опере Бизе «Кармен», в концертах Франка и Сен-Санса, в большинстве случаев может поставить в тупик. Однако – все это не мешает нам говорить о французской или немецкой национальной музыке 19 века, просто «национальная идентичность» подобной музыки определяется в соответствии с иными параметрами, нежели специфика сюжетно-тематического ряда и своеобразие стилистики. Шопен, большую часть жизни проведщий в Париже, с «эталонно венским» романтизмом его творчества, с глубочайшей сопричастностью его творчества «классическим» музыкальным формам и «общеромантическим» идеалам и горионтам, при этом является выдающимся польским композитором, «лицом» польской национальной музыки, основоположником которой он вовсе не был, и конечно же – далеко не по причине его широкого обращения к использованию «национальных» жанрово-композиционных форм. Романтизм – универсальное культурное и творческое пространство, единое на основе исповедания эстетических идеалов и целей «экзистенциального», как бы сказали сегодня, плана и толка (по этой причине романтизм иногда напоминает гуманистический культ высшей ценности единичного человека, его самовыражения, внимания к его внутреннему миру, к жизни его души и духа, осмысления и переживания драмы его свободы, существования и судьбы), и «идентичность» национальных школ музыки проясняется в течение почти всего 19 века на основе их вклада в достижение «общеромантических» идеалов и горизонтов, понимаемых в качестве сущностных для музыкального творчества. Польская и чешская музыкальные школы – мощнейшие, оставившие масштабное наследие и плеяду значительных имен – уходят корнями еше в «классический» период второй половины 18 века, а в веке 19 являются «эталонно романтическими», и «национально идентичны» именно за счет их вклала в осуществление «романтических» художественно-эстетических иделов, через спицифику творческого подхода и метода, а не на основе «стилистического своеобразия» создаваемой в их лоне музыки. Говоря иначе – вопрос о «национальной идентичности» музыки, в отличии от того ракурса, в котором его ставят «стасовская эстетика» и русская музыка второй половины 19 века в целом, совершенно не тождественен концептуальности и своеобразию музыкальной стилистики, определенности и «особенности» форм, используемых в творчестве музыки. И.Брамс долгие годы создававший «немецкую» в плане школы, традиций, художественно-эстетической концепции и т.д. музыку, вместе с тем стал знаково «национальным» композитором, обретшим глубокое и незыблемое признание в поле национальной музыкальной культуры, только после «Немецкого реквиема» – произведения, в музыке и образности которого ему, по всеобщему утверждению, удалось воплотить и выразить «немецкий национальный дух и характер», по крайней мере – то, что тогда понималось и ощущалось как это, причем достигнуть подобного без обращения к «фольклорному» музыкальному материалу и какой-то специфической, «национально своеобразной» стилистике.
Читать дальше