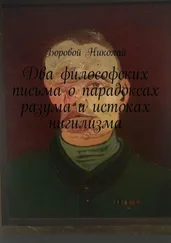Если пронизанная «народничеством», «социальностью» и поисками национальной самобытности музыка «кучки», как правило имеет своим объектом и предметом «мир», то Рубинштейн пересаживал на русскую музыкальную почву ту «романтическую» и экзистенциальную концепцию музыки, в которой музыку интересует
внутренний мир человека , глубины его мысли, души и духа, в которой предметом музыки выступает Ее Величество Личность, то есть – говоря языком Бердяева – музыки как искусства «субъектного», а не «объектного». Рубинштейн нес с собой ту музыкальную парадигму, которая, собственно, заглядывала в достаточно отдаленное будущее русской музыки и конечно, в известной мере, была «не своевременна» и чужда для господствовавших тенденций, вне которой было бы возможно наследие Мусоргского и Корсакова, но никогда не было бы возможно наследие Чайковского, Танеева, Рахманинова и многих других. Творчество Рубинштейна несло с собой то понимание музыки, которое спустя определенное время позволило превратиться национальному музыкальному языку в «универсальный», общечеловеческий язык экзистенциального диалога и самовыражения, в той же мере самобытный, в которой считываемый и воспринимаемый в его смыслах, глубинных экзистенциальных коннотациях, практически в любой слушательской аудитории. Музыка Мусоргского и Корсакова окажется интересной и близкой тем, кого тянет на «национальную специфику», Чайковский же, с «русским» языком его музыкального гения, окажется близким любому и отзовется в каждом, кто сопричастен экзистенциальным переживаниям и в принципе восприимчив к языку музыки. Поздние симфонии Чайковского —«русские» ли они? Безусловно – и с точки зрения музыкальной образности, и в зачастую прямом обращении к «народной» мелодике. При этом – они значительно более, чем «русские», эстетическая ценность этих симфоний менее всего связана с их приверженностью национальной музыкальности, с красотой и лиризмом некоторых музыкальных тем.
Речь идет о музыкальных образах как глубочайших философско-экзистенциальных символах, как языке экзистенциальной исповеди художника и опосредования наиболее трагических, глубинных сторон его личностного опыта. Речь в целом идет о симфонических произведениях как масштабных философских полотнах, полных прозрений о трагизме существования и судьбы человека, пронизывающих его путь в мире противоречий, о трагизме смерти, о мощи воли и духа человека, способного торжествовать над смертью, или о безнадежности перед ней. Речь идет симфонических полотнах как поле философствования и экзистенциального самовыражения художника, где музыкальные образы и принципы их композиционного развития, в конечном итоге являются философско-экзистенциальными символами, «речью» глубочайших смыслов, языком экзистенциального диалога. Может ли ценность Четвертой симфонии Чайковского, начинающейся с немного переработанного образа «фанфар воли и борьбы» из рубинштейновского «Океана», измеряться одними лишь блестящими и вдохновенными вариациями на тему русской народной песни? Разве же ценность и эстетическое значение этой симфонии мыслимы вне глубочайшего и музыкально вдохновенного рассуждения о трагизме смерти и судьбы, которое разворачивается в самом ее начале, в пророческих, экстатических темах первой части, и звучит вплоть до самого финала, внезапно прорывается голосом фанфар и страшными ударами оркестра посреди упоения «воли к жизни», говорящего языком народной мелодии? Чайковский прекрасен в его «народных», ранних симфониях, но подлинно велик и гениален именно в поздних, в превращении полотна симфонии в поле и язык философско-экзистенциальной исповеди, в переходе от «объектности» музыкального мышления и творчества к его «романтичности», то есть «субъектности» и «экзистентности». В конечном итоге – Чайковский оказался способен к творчеству этих симфоний не только в контексте определенного этапа его опыта, личностного и творческого пути, а прежде всего потому, что был сформирован в русле «романтической» и рубинштейновской, привнесенной Рубинштейном на русскую почву концепции музыки как искусства экзистенциального, предназначенного для глубинного самовыражения человеческой личности, выступающего полем этого экзистенциально-философского самовыражения. С Рубинштейном в русскую классику пришла концепция музыки, наполненной философски и экзистенциально, наполненной «шопеновски» и «мендельсоновски», «бетховеновски» и «шумановски», и далеко не в аспекте стилистики, а в аспекте содержания, пронизанности философствованием, экзистенциальной экспрессией, трагизмом жизне и мироощущения. Вы услышите в музыке Мусоргского и Корсакова очень много красоты и поэтичности народной мелодики, живописно рисуемых картин «народной жизни», былинности и истории, но никогда не услышите и не найдете в ней подобного содержания. В народнической музыке «кучкистов», при всех ее достоинствах, и в обосновавшей ее эстетике, в принципе не стоит подобных задач и целей, в их рамках невозможно само обращение к подобной тематике и проблемности, к разрешению подобного уровня эстетических задач и дилемм, а случись подобное «обращение», оно не смогло бы стать реализованным в стилистической ограниченности этой музыки и эстетики, в ограниченности музыкального языка. Чайковский пишет увертюры «Гамлет», «Буря», «Ромео и Джульетта», симфонию «Манфред» и многое иное, потому что ощущает себя способным говорить на «универсальном», освобожденном от национальной ограниченности музыкальном языке, в целом ощущает музыку как поле философствования и экзистенциального диалога – это и позволяет ему обращаться к подобной тематике, ставить перед собой подобные художественные задачи, ощущать «общечеловеческую» культурную и музыкальную сопричастность. К подобной тематике и проблемности сложно обращаться, говоря тем музыкальным языком, которым написаны симфонии Корсакова и Бородина. С помощью этого языка, усматривая цели музыкального творчества в реконструкции национального характера музыкальности, наверное невозможно создать полотно, полное философствования, трагического и экзистенциального пафоса – музыкальное мышление должно быть для этого освобождено от ограниченности «национального своеобразия», от довления ложных целей и установок, обращено к совершенно иным целям. Факт состоит в том, что в наследии композиторов-«кучкистов» не создано ничего подобного, ибо подобное не фигурировало на горизонтах их эстетических целей и идеалов, и передача духа народных былин увлекала более, нежели пророческое и вдохновенное мышление средствами музыки, нежели диалог ее языком о трагическом, философском и экзистенциальном. Балакириевская увертюра (музыка к драме) «Король Лир», будучи едва ли не единичной попыткой, скорее именно подтверждает это. Эстетика «кучки» делала музыкальное творчество в известной мере
Читать дальше