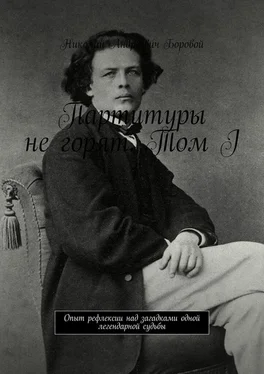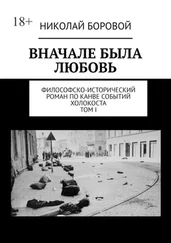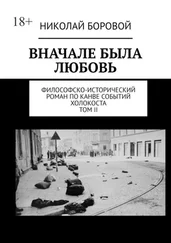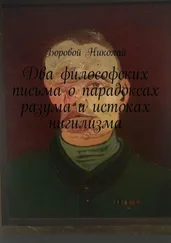Так не в том ли дело, что цель действительно виделась в создании сугубо «стилистичной» музыки, всецело подчиненной вопросам и дилеммам стилистики, в которой высшей ценностью и целью выступало достигаемое за счет стилистики «национальное своеобразие», и основной особенностью конечно же являлось все то же «стилистическое», «фольклорно-национальное» своеобразие?
Если бы это было не так, в музыке и музыкальных произведениях волновало бы то, что всегда должно волновать в них и в любых произведениях искусства – художественно-смысловые коннотации, символизм и смысловая выразительность, внятная и поэтически вдохновенная выраженность чего-то, именно это в первую очередь должно было бы фокусировать внимание и служить параметром художественной рефлексии и оценки. Однако, и в современных оценках, лишь продолжающих традиции и предрассудки, дискуссии и «баталии», застывшие в полутора веках истории русской музыки и музыкальной эстетики, волнует и интересует по-прежнему только одно: «русскость» музыки, достаточность и достоверность в ней «национального своеобразия», как будто такое «своеобразие» является тем главным, что представляет ценность в музыке и должно быть в ней «выражено», что желают расслышать и обнаружить в ее восприятии.
А не в том ли дело, что это действительно так – невзирая на всю абсурдность подобного – и «национальное своеобразие», «национальные» элементы в музыке, вопросы «стилистики» и «форм», действительно обладали в русской музыке и музыкальной эстетике таким статусом и значением, и влияние этого положения вещей и опыта ощутимо и доныне? Возникает впечатление, что современные российские музыковеды, следуя давним традициям и предрассудкам, словно нерадивого ученика на «профпригодность», экзаминируют выдающегося композитора, и доныне, невзирая на все попытки обречь его наследие на забвение, обладающего широким признанием в пространстве общемировой музыки, на способность писать достоверную в ее «национально-стилистическом своеобразии» музыку как на критерий ценности его творчества и самого права такового на существование и память. Упреки в неумении писать «настоящую русскую музыку», в непонимании «русского стиля», в «чуждости» русской музыкальной культуре и жизни, стали глубокой раной композитора, однако – это привело его к тому вдохновенному по исканиям и результатам творческому периоду, когда творчество в «национальной» стилистике и постижение ее возможностей, стали для него «программной» и существенной целью.
Однако – композитор не просто масштабно создает в подобной стилистике, свидетельствует ее глубокое понимание и органичное ощущение в качестве художественного языка: будучи художником «романтического» сознания, он превращает «национально своеобразную» стилистику в мощное средство выражения, создания философски и поэтически символичных, смыслово выразительных образов, нередко предстающих внятной и искушенной «речью» философских мыслей, глубоких и нравственно-философски х
переживаний. Так, к примеру, как это в «Русском каприччо» для ф-но с оркестром, в Пятой «Русской» симфонии (последнее произведение традиционно принято упрекать в недостоверной и поверхностной «русскости» музыки, однако – «национальное своеобразие» просто звучит в нем иначе, нежели в симфониях «русских корифеев», что преступно уже само по себе, а главное – как язык и средство выражения, как материал для создания пронизанных самовыражением и глубиной философской мысли образов, а не как довлеющая, «самодостаточная» и «тяжеловесная» стилистика). Общеобязательное и доминирующее, насаждаемое как эстетический идеал, требование писать «русскую», «стилистически своеобразную и характерную» музыку, то есть подчинять музыкальное творчество определенной стилистике, ничуть не побудило композитора отступить от тех фундаментальных эстетических установок, что любое музыкальное творчество происходит
во имя выражения чего-то, во имя создания символичных, поэтически и смыслово выразительных образов, напротив – побудило превратить эту стилистику в поэтичный и символичный язык выражения, вполне адекватный целям экзистенциально-философского самовыражения и художественно-философского осмысления мира как сущностным для музыкального творчества. Собственно – этим оправдать обращение к подобной стилистике, уместность ее использования: «романтический» по сути и эстетическому сознанию композитор, Рубинштейн в принципе не может относиться к стилистике и «национальному характеру» музыки как чему-то «самодостаточному», любая стилистика для него – лишь то, что должно послужить сущностным целям музыкального творчества.
В том числе – и та стилистика, которая задается как «программная», призвана подчинять и определять музыкальное творчество, выстроена в русле концептуального, «фольклорно-национального» своеобразия. «Русская» музыка в этот период в целом является музыкой, обладающей «национально-стилистическим своеобразием», в стилистике которой тем или иным образом, в том или ином объеме, используются «фольклорно-национальные» элементы – дискуссии и «баталии» о необходимости для музыки быть «русской» и «национально сопричастной», приводят к таким тенденциям, к формированию подобной концепции музыкального творчества. С точки зрения «принципа» – это могло быть либо так называемым «цитированием»: композиционно-вариативной разработкой уже существующих «народных» мелодий, с органичным вплетением ее в образно-смысловую структуру произведений или попыткой превратить такие мелодии в самостоятельный художественный образ, примеров тому множество, либо созданием целостных в их «национальном своеобразии» музыкальных тем на основе использования «фольклорного» материала, особенностей «народной» ритмики и мелодики, в самом лучшем случае, становящихся поэтичным и символичным язык выражения, зачастую же – просто довлеющих как художественная форма. С точки зрения «масштаба» – это могло быть либо полное подчинение музыкального произведения «фольклорно-национальной» стилистике, его созданность на основе «национально своеобразных» музыкальных тем, либо частичное задействование «национальных» элементов в качестве стилистики одной из частей произведения или некоторых, ключевых музыкальных тем. Этим де факто является то, что предстает нам в многочисленных свидетельствах «программно русской» музыки второй половины 19 века, однако – концепция «русской» музыки и места «национального» в структурах музыки, во всем этом срезе музыкальных произведений далеко не однородна, и зачастую заключает в себе принципиальные противоречия. «Романтическое» направление русской национальной музыки в лице Рубинштейна, Чайковского, Танеева, обращается и к «частичному», и к «программному», «всеобъемлющему» использованию «фольклорно-национальных» элементов (сочетая и в творчестве вообще, и отдельных произведениях, подобную стилистику со стилистикой совершенно иного плана), но в целом – эти элементы используются в творчестве указанных композиторов именно как язык и средство выражения, «русская» музыка здесь – музыка, в которой «фольклорно-национальная» стилистика прочувствована и используется как органичный язык выражения
. «Стасовский круг» композиторов отстаивает наиболее «догматичную» и тенденциозную концепцию «русской» музыки, в которой «национальное своеобразие» есть не просто целостная и довлеющая, превращенная во «всеобъемлющий» язык музыкального творчества стилистика, а в качестве художественной особенности музыки, выступает еще и высшей целью ее творчества, «самодостаточной» эстетической ценностью. В творчестве этих композиторов мы зачастую слышим – «национальное своеобразие» присутствует в музыке «во имя самого себя», «выпукло» и «довлеюще», поскольку является самодостаточной эстетической ценностью и целью, тем «главным», то должно быть в музыке и определять ее облик, в структуре музыки выступает не средством и языком выражения, а довлеющей художественной формой, с которой отождествляются «красота» и эстетическая ценность музыки. Образы музыки призваны быть здесь «прекрасными» не их символичностью, смысловой выразительностью и ясностью, как застывшие в звуках мысли, идеи, настроения и переживания (что может достигаться как в использовании «национальных элементов», так и в обращении к формам исключительно «простым»), а именно за счет «оригинальности» и «фольклорно-национального своеобразия» форм, на основе которых они выстроены, то есть за счет довления и самодостаточности «своеобразной» формы, претендующей на «художественность» и «образность». В этой, наиболее тенденциозной версии, «национальное своеобразие» музыки и соответствующая стилистика – не средство и язык выразительности, а самодостаточная эстетическая ценность и цель, сама музыка мыслится в ней искусством, всеобъемлюще «национальным» и стилистически ограниченным. «Русская» музыка здесь не та музыка, которая выстроена в органичном ощущении «фольклорно-национальных» форм как языка и средства выражения, на пути к сущностным целям в той или иной мере обращается к подобным формам, а только та, в которой «национально-стилистическое своеобразие» является высшей, самодостаточной эстетической ценностью и целью, а «фольклорные формы» превращены в целостную, довлеющую и самодостаточную же стилистику, выступающую превалирующей и чуть ли не единственно легитимной «конвой» музыкального творчества. Вся проблема в том, что «национальное своеобразие», из стилистики и средства выражения, превращается здесь в нечто эстетически самодостаточное, довлеющее и «всеобъемлющее», что приемлемым считается создание только той музыки, в которой оно обладает подобным художественным значением и «местом», что русская национальная музыка мыслится в принципе невозможной и неприемлемой вне парадигмы «национально-стилистического своеобразия», вне выстроенности в соответствии с ней. В этом причина, по которой та музыка «романтических» русских композиторов, в которой «национальное своеобразие» используется с художественной органичностью и выразительностью – и «частично», и целостно, и «контурно-утонченно», и «выпукло фольклорно» – все равно вызывает у «стасовского круга» непонимание и неприятие, оценивается как «не вполне русская» (слишком очевидна «инаковость» художественной роли в такой музыке «национально-стилистического своеобразия»).
Ведь в самом деле – не только Рубинштейн, но и Чайковский, и Танеев, в течение довольно долгого периода, вынуждены были «оправдываться» и убеждать, что являются «русскими» композиторами, ибо по характеру своего творчества не укладывались в рамки господствующих представлений о «русской» музыке, о национальной идентичности и сопричастности «русского» композитора и его музыки (вплоть до того, что Чайковский был вынужден печатать в газетах «оправдательные» и «увещевательные» статьи). В частности, в одной из таких статей, в доказательство того, что он «русский» композитор, измученный и обескураженный нападками, Чайковский приводит и тот «аргумент», что большую часть времени живет и работает в России… Возможно, это способно до некоторой степени прояснить, насколько «аффекты патриотизма», дилеммы «славянофильства» и «борения национальной идентичности», в целом – связанные с национализмом «социальные аффекты», переносились и на сферу «музыкального» и «эстетического», оказывали на нее концептуальное внимание, формировали эстетические идеалы и такой ключевой из них в этот период, как необходимость для русской музыки быть «идентичной» за счет «национального своеобразия» и «фольклорности» ее стилистики. Отсюда, именно отсюда проистекает установка на «всеобъемлющий» характер в русской музыке «национально-стилистического своеобразия», на довлеющее и самодостаточное значение в ней соответствующей стилистики, на борьбу за «национальную идентичность и своеобразность» музыки как высшую эстетическую цель. В самом деле – из дилемм «славянофильства», конечно же, проистекают и «программное» противоставление музыки русской и европейско-романтической, и требование для русской музыки быть «иной», и в первую очередь – «стилистически иной», нежели европейская, и фундаментальность этого «противоставления» для национальной и художественной идентичности русской музыки, и определяющий характер для нее дилемм «идентичности» как таковых (вследствие этого – и дилемм «стилистики», с которой увязывается «идентичность»).
Ведь музыка – искусство, существенно включенное в социо-культурное поле, в структуры культуры и существования общества, и доминирование на этом «поле» тенденций и процессов национализма, приоритетность в системе ценностей и моральных установок общества «национального» над «общечеловеческим» и «экзистенциально-личностным», самым определяющим и внятным образом сказались на формировании эстетического сознания, эстетических идеалов критериев и приоритетов, целей и горизонтов музыкального творчества. Отождествление в музыке «прекрасного» с «национальным», «национально своеобразным» и «фольклорным», утверждение приоритетности дилемм «стилистики» и «национального своеобразия» над такими сущностными и общечеловеческими по характеру целями музыкального творчества, как самовыражение, философско-поэтический символизм, художественно-философское осмысление мира, безусловно сформировалось только под влиянием глубинных тенденций и процессов в русском обществе и его культуре. Творчество русских композиторов-«романтиков» – с его экзистенциальностью и философизмом, общечеловечностью и «наднациональностью», с сочетанием в нем общекультурной и национальной сопричастности, с его глубинной приверженностью сюжетно-тематической и стилистической широте, диалогу с европейской музыкой по наиболее животрепещущим вопросам, художественным идеалам, задачам, дилеммам и т.д., оказалось на острие этих противоречий. Творчество Рубинштейна, с его диалогичностью и «двойной», европейско-романтической и русской идентичностью, глубоким участием в разрешении дилемм не только русской, но и романтической, а на тот момент де факто общемировой музыки, с его сущностно романтической и экзистенциальной «общечеловечностью», общекультурной сопричастностью и обращенностью к самым широким стилистическим и сюжетно-тематическим горизонтам, конечно же оказалось поистине символично брошенным на острие тех процессов и противоречий в русском обществе и культуре такового, которые развернулись между полюсами дилеммы «европейская», или какая-то «иная» и «самобытно русская» идентичность. Любопытно, что точно так же, как в отношении к становящейся русской музыке, Рубинштейн сыграл роль титана-просветителя, в борьбе и с неистовым упорством сформировавшего в ней «романтическое» направление, сумевшего укоренить на ее почве самые ключевые и животрепещущие идеалы и горизонты, цели и дилеммы, а так же наследие современной ему европейской музыки, то и в пространстве музыки европейской он был так же одним из «идейных вождей» с могучим авторитетом, главой так называемого «антиганслиговского» лагеря, то есть – принимал самое существенное участие в обсуждении и разрешении актуальных для таковой дилемм. Однако, именно то, что должно было выступать предметом гордости – общеевропейский масштаб идейно- эстетического влияния русского композитора и художника, служило причиной для по сути «эстетической ненависти», то есть для радикального отторжения и неприятия и фигуры композитора, и его идеалов, и его творчества, для постулирования «чуждости» таковых русской музыке и музыкальной культуре. Враждебность к «европейскому» и «романтическому» в творчестве композитора – от идеалов до стилистики и сюжетов, к его невместимости в модель «национально замкнутого» и «патриархального» искусства, отдаленного как от общечеловеческих в сущностном, так и общеевропейских в художественном плане дилемм, даже не к «упорному нежеланию», а к попросту невозможности для композитора ограничиваться «национальной» стилистикой, «национальными» горизонтами сюжетов, «национального» плана целями и задачами, проистекала именно из этого .
Рубинштейн нес эстетические идеалы и горизонты, во многом «обратные» от тех, с которыми связывалась концепция «русской», «национально идентичной и своеобразной» музыки, всеобъемлюще «национальной» как искусство – в этом причина радикального отторжения его фигуры и творчества, перенесшегося и на композиторов его «дома». Казалось бы – после Первой симфонии, могущей служить образцом того, что такое «русская» музыка, что такое органичное и глубокое ощущение «фольклорных форм» в качестве языка самовыражения и создания символичных музыкальных образов, сам вопрос о том, «русский ли композитор Чайковский?», абсурден и подниматься не должен. Однако – сам по себе факт недостаточной «фольклорной тяжеловесности» и «выпуклости» в музыке ее русского своеобразия, ее «недостаточной» нацеленности на борьбу за «фольклорно-национально своеобразие» и его достоверность, ее глубинной озабоченности не «своеобразием стилистики», а правдой самовыражения и служением стилистики этому, по всей вероятности давал основания считать, что речь идет о «не вполне русской» музыке. Точно так же, как приверженность творчества композитора сюжетно-тематической и стилистической широте, его обращение и к иным стилистикам, нежели «русская», в целом приоритетность для него целей самовыражения и художественно-философского осмысления мира, а не дилемм стилистики и идеала программного и самодостаточного «своеобразия» таковой, служили основанием для сомнений в том, «русский» ли это композитор, и создает ли он «русскую» музыку. Увы – речь идет об известных фактах, однако приводящие эти факты русские музыковеды, вместе с тем нисколько не считают необходимым как-то отнестись к заключенным в них и очевидно знаковым противоречиям, попытаться задать вопрос о смысле, причине и конечно же – «эстетической правомочности» таковых, стоящих за ними установок.
С этих «радикальных» позиций мизерное к-во произведений Чайковского, в основном камерных, могло бы быть сочтено «собственно русской» музыкой, большая же часть даже тех из них, в которых «фольклорные» элементы органично используются как средство выразительности, вдохновенно переплавляются в «национально окрашенные» темы, соседствующие в структуре с иными по стилистике темами, «русской» музыкой не являются, не говоря уже о тех, в которых «русская», «фольклорно-национальная» стилистика отсутствует в принципе. Вся проблема, собственно, в том, что «русская» музыка, в данном случае – призванная создаваться и имеющая право на существование в пространстве национальной музыкальной культуры, отождествлялась с этих позиций с музыкой, которая обладает «национально-стилистическим своеобразием», выстроена в русле ограниченной, «фольклорно-национальной» стилистики, довлеющей и являющейся чем-то «эстетически самодостаточным». Еще точнее – в отождествлении художественной и национальной идентичности русской музыки с ее «национально-стилистическим своеобразием», с ограниченной, «фольклорной» по принципу стилистикой, с довлением и «всеобъемлющим» характером подобной стилистики. Окончательно – проблема состояла в концепции, исключающей возможность помыслить русскую музыку вне «национально-стилистического своеобразия», вне ограниченной «фольклорной» стилистики, в ее принципах и художественной роли во многом «каноничной», вне выстроенности в подобной стилистике. Собственно «русская» музыка – музыка, выстроенная в ограниченной, «фольклорной», довлеющей и «всеобъемлющей» по характеру стилистике, «самодостаточной» в ней как эстетическая ценность и цель: «полувнятные экивоки» и «контурные намеки» в сторону «национальных истоков» и «фольклорно-национального своеобразия», вовсе не устраивают «стасовский круг», с точки зрения такового, «национальное своеобразие» должно присутствовать в русской музыке довлеюще и наиболее «выпукло», «во имя него самого», как нечто, в эстетическом аспекте «самодостаточное» и тождественное «прекрасному». Говоря яснее – «стасовский круг» композиторов вовсе не устраивает просто раскрытие выразительных возможностей «фольклорных форм» и «национально своеобразной» стилистики в целом, привнесение таковых в музыку в качестве органичного средства выразительности, из музыки композиторов этого круга, из программного отрицания ими творчества коллег по цеху национальной музыки, следует очевидное: «национальное своеобразие» интересует их как нечто довлеющее и всеобъемлющее, эстетически самодостаточное и подчиняющее музыкальное творчество. Обычно, «фольклорное» – это «самобытное» и «оригинальное», а потому – несомненно «хорошо», однако – довление «фольклорных», как и любых иных форм, происходящее в ущерб символичности, смысловой выразительности и объемности музыки, когда музыкальные образы слышатся «красотой» и вызывают интерес не их символизмом и смысловой выразительностью, внятностью и ясностью в качестве «речи смыслов», не их превращенностью в заговорившую языком звуков мысль, а «оригинальностью» и довлением форм, из которых они сотканы – это вовсе не так уж однозначно «хорошо». Образы бетховенской музыки в большинстве случаев сотканы из скульптурно «простых» и «чистых» форм, что не просто не препятствует, а принципиально служит их символичности и смысловой выразительности, будучи структурно и стилистически «простыми», они прекрасны именно их символизмом и выразительностью, пронизанностью множественными смыслами, как говорящие языком звуков мысли, глубокие философские идеи и прозрения, богатейшие и многогранные личностные переживания . Вслушиваясь в них, мы понимаем – довление «оригинальных» форм могло бы лишь разрушить их символичность, смысловую и выразительность и объемность, их «прекрасность», самые простые формы находятся композитором как совершенный и символичный язык выражения. С указанных позиций трудно было счесть «русской» музыку, в «общеромантической» стилистике и образности которой, со вкусом, как яркое средство выразительности, вкраплены использование «национально окрашенных» тем или вариативная разработка «оригинально народных» мелодий – как в концертах Чайковского, симфониях Танеева, камерных произведениях Рубинштейна. «Русской» могла быть сочтена лишь музыка, выстроенная в русле довлеющей «фольклорно-национальной» стилистики, всецело подчиненная этой стилистике, в которой подобная стилистика и в целом «национальное своеобразие» выступают эстетически «самодостаточной» ценностью и целью.
«Фольклорно-национальная» стилистика, «всеобъемлющая» и довлеющая, подчиняющая музыкальное творчество и определяющая облик музыки, выступающая «самодостаточной» как эстетическая цель и ценность – вот, что с наиболее радикальных установок понимается под «русскостью» музыки, под «подлинной» национальной и художественной идентичностью русской музыки. Говоря иначе, «русскость» музыки, национальная и художественная идентичность русской музыки, подразумевают в этих установках, во-первых – стилистическую «своеобразность» и ограниченность музыки, а во-вторых – не просто приверженность олицетворяющей «национальное своеобразие» стилистике, а ее безоговорочное довление как художественного языка, как «самодостаточной» эстетической ценности и цели. Рубинштейн конечно же пишет «русскую» музыку, то есть музыку, концептуально использующую «фольклорные» музыкальные формы в качестве языка и средства выразительности, причем в той или иной мере делает это из самых истоков его творчества и на всем протяжении такового (оставим в сторону вопрос о как таковой правомочности предъявления к композиторам подобных требований и попытки измерять в соответствии с ними ценность создаваемой музыки
). Однако – точно так же, как написание такой музыки и в целом подобная концепция музыкального творчества, не являются для него всеобъемлющей целью («романтическое» по сути и духу творчество композитора обращено к целям и горизонтам более сущностным, нежели создание «национально характерной», стилистически концептуальной и ограниченной музыки), и эта стилистика не является для него единственным языком самовыражения в творчестве музыки. В «романтичности» своего творчества и музыкального мышления, композитор пишет
иную «русскую» музыку, которая звучит
иначе , точнее – «национальное своеобразие» и «русскость» которой звучат иначе, нежели у апологетов концепции «русской музыки» – поэтично, символично и выразительно, а не довлея и самодостаточно, подчиняя себе музыку, ее «ткань» и образность. Рубинштейн не пишет «русскую» музыку как музыку «стилистичную», замкнутую на вопросах и дилеммах стилистики, на высшей цели ее «национально-стилистического своеобразия».
«Русская» музыка – «стилистичная» музыка, с одной стороны – потому, что сама ее концепция выстроена на «своеобразии» и «определенности» стилистики, на доминировании «фольклорной» и «национально характерной» стилистики в качестве художественного языка, с другой – потому, что «национально-стилистическое своеобразие» мыслится и де факто является в ней чем-то эстетически самодостаточным и приоритетным, тождественным «прекрасному» и исчерпывающим эстетические ожидания. Все так: «русская» музыка – это «стилистически своеобразная и ограниченная» музыка, выстроенная в совершенно определенной и сформулированной в ее принципах стилистике, «национально-стилистическое своеобразие» которой самодостаточно и обладает высшей эстетической ценностью, от композиторов требуют писать только такую музыку – «национально своеобразную» и «стилистически ограниченную», в которой дилеммы и аспект стилистики доминируют над идеалами выразительности, смысловой объемности и глубины, философско-поэтического символизма. Русская музыка должна быть «русской», то есть обладающей внятным «национально-стилистическим своеобразием», за счет такого «своеобразия» идентичной – такова главенствующая в 50-90-е годы 19 века эстетическая установка, но за всей ее кажущейся «логичностью», таятся сущностная и стилистическая ограниченность, «национальная замкнутость» музыкального творчества, доминирование в нем дилемм и вопросов стилистики на сущностными целями самовыражения и художественно-философского осмысления мира, целей и сверхзадач «национального» плана – на общечеловеческими горизонтами и дилеммами, подразумевающими диалогичность и общекультурную, а не только национальную «сопричастность», сюжетно-тематическую широту и стилистическую разносторонность. Однако, для «романтического» композитора Рубинштейна, подобное «своеобразие» – лишь средство и язык для сущностных целей музыкального творчества, обращение к нему не эстетически самодостаточно и императивно, а должно быть оправдано его способностью послужить целям самовыражения и художественно-философского осознания мира. «Романтический» сутью и эстетическими идеалами композитор, Рубинштейн и не может видеть цели в как таковом создании музыки, обладающей достоверным «национально-стилистическим своеобразием», в которой это «своеобразие» самодостаточно и тождественно «прекрасному» – подобная стилистическая особенность музыки должна быть для него фундаментом ее образно-смысловой выразительности и символичности, то есть того, что действительно и по сути «прекрасно», и вот – в «русских» музыкальных образах, созданных композитором, мы обнаруживаем именно поэтичные и объемные символы, вмещающие в себя философские, культурные, эмоционально-нравственные смыслы. Все так – и глубоко «национальные» по своей стилистике темы, вместе с тем предстают как глубокие и сложные философские рассуждения, как символы осознанных композитором языком музыки исторических событий и процессов, как поэтичное и проникновенное признание в глубоко личностных чувствах и переживаниях, от трепетной любви к России до философской, безысходной, словно «сжигающей» тоски о неумолимо движущейся к смерти жизни. Вот тот самый композитор, которого обвиняли в «нерусскости» творчества, для которого, по самой сути его творчества, «национальная» стилистика действительно была лишь одним из языков и средств выразительности, и ни в коем случае не могла быть чем-то «эстетически самодостаточным», использует такую стилистику именно сущностно, обращаясь к ее наиболее сущностным возможностям, превращая ее в поэтичный язык самовыражения, творчества символичных, смыслово выразительных и объемных образов. Говоря иначе – ценя в ней не ее глубокую, «выпуклую», зачастую довлеющую и самодостаточную «фольклорность» и «характерность», а ее поэтичность и выразительные возможности, способность служить символичным, «внятным» и выразительным языком смыслов. В «русских» музыкальных темах Рубинштейна, мы зачастую встречаем даже не только символы и язык глубоких личностных чувств, а целостные философские идеи, поражающие их выразительностью, емкостью и символизмом образы исторических событий. Обращающийся к «фольклорно-национальной» стилистике именно как к инструменту создания глубокой, выразительной и символичной музыки, и именно в этом усматривающий высшую и сущностную цель музыкального творчества, Рубинштейн конечно же не мог найти признания в среде композиторов, которые писали «русскую» музыку как раз во имя ее «русскости» и «национального своеобразия», исповедовали «фольклорный» и «национальный» характер музыки в качестве высшей эстетической ценности – им казалось, что он пишет «не по-настоящему русскую» музыку («не так» и «не для того» звучало в музыке «русское»). Все верно: «национальное своеобразие» звучало у него как достоверно понятая и прочувствованная стилистика, органично включенным в образно-смысловую структуру музыкальных произведений, однако – именно как средство и язык выражения, а не как нечто «самодостаточное», выступающее «высшей» эстетической ценностью и целью, а значит, «русская» музыка Рубинштейна – «не вполне и недостаточно русская», недостаточно убедительное воплощение «русского характера и своеобразия» музыки становится главным «упреком» в его адрес. Однако – «национально своеобразные» элементы и формы используются Рубинштейном именно так, как в целом обращается к ним музыка позднего романтизма, причем даже в ее «программном национализме», если говорить о Дворжаке: как
средство выразительности , то есть их использование и присутствие в музыке
не является самодостаточной эстетической ценностью и целью (потому, надо полагать, что ценность в музыке представляет не ее как таковое «национальное своеобразие», а ее символичность и выразительность, смысловая объемность и глубина). Все верно – в музыке Рубинштейна, как и в музыке Дворжака, к примеру, «национально-стилистическое своеобразие» и образующие таковое «фольклорные формы», есть лишь глубоко и органично ощущаемое средство выразительности, средство для реализации сущностных целей, но ни в коем случае не нечто «эстетически самодостаточное», выступающее «программной» ценностью и целью, довлеющее и подчиняющее музыкальное творчество, их ценность и использование обусловлены именно их возможностями в отношении к целям самовыражения, художественно-философского осмысления мира, философско-поэтического символизма музыки, к особенностям художественных замыслов.
Французскому или немецкому, чешскому или венгерскому «романтику» не придет на ум, что создание «национально своеобразной» в ее стилистике музыки, может быть «программной» и «всеобъемлющей» эстетической целью – в отношении к тому, что является для него действительными и сущностными целями музыкального творчества, подобное было бы попросту абсурдным, и «программный», убежденный националист Дворжак, для которого при этом не существует иной «высшей» цели, кроме образно-смысловой выразительности и символичности музыки, сочетает в творчестве «фольклорно-чешскую» стилистику со стилистикой «эталонно романтической», обращается к «национальной» стилистике лишь в той мере, в которой это оправдано и обусловлено ее выразительными возможностями. Более того, как правило сочетает эти «разные» стилистики в одном произведении, творчество «национально окрашенных» произведений – с написанием тех, основной особенностью которых являются философско-смысловая глубина образов и «романтическая обобщенность» и философский символизм стилистики, делает это, ничуть не опасаясь обвинений в том, что пишет «не вполне чешскую музыку» или «подвержен влиянию пошлости и штампа».
Все это так просто потому, что «национально-стилистическое своеобразие» музыки не является самодостаточной эстетической ценностью и целью, и попытка утвердить его в этом качестве была бы совершенно абсурдной и неприемлемой в отношении к тем идеалам «романтизма», которые в течение почти века определяли развитие европейской музыки . Если бы Дворжаку, с его глубочайшим вниманием к выразительным возможностям «фольклорных форм» сказали, что его целью как художника является написание «чешской музыки», то есть музыки, сутью и принципом, основным достоинством и определяющей особенностью которой является «национально-стилистическое своеобразие», он, надо полагать, рассмеялся бы от абсурдности подобного утверждения, ибо даже в на позднем этапе творческого пути, как это показывает симфония «Новый Свет», для него не было более «высокой» и «сакральной» художественной цели, нежели создание философски объемной, символичной и выразительной музыки, нежели выражение в музыкальном творчестве философского осознания и ощущения мира. Однако – русских композиторов, современников Рубинштейна, и выпестованных на полуторавековых предрассудках музыкальных критиков, в оценке «русской» музыки Рубинштейна интересуют не выразительность музыки, не целостность и реализованность художественного замысла, не художественно-смысловые коннотации и символизм образов, а все те же дилеммы стилистики – достоверность и достаточность «русского своеобразия», воплощения «русского музыкального характера», удалось ли создать убедительную в ее «своеобразии» и «характерности» стилистику, или не удалось.
Фактически – «национальное своеобразие» стилистики оценивается и интересует «само по себе», а не в его отношении к художественным целям и сути художественного замысла, к выразительности, символичности и смысловой объемности музыкальных образов и т.д. Достоверность «национального своеобразия и характера» стилистики, «качество» стилистики – вот, что интересует в музыке и музыкальном произведении, и так это именно потому, что подобное же в конечном итоге является высшим эстетическим идеалом, «самодостаточной» эстетической ценностью и целью . Однако – не счесть доказательств тому, что «русской» музыке в этот период предписывается быть «национально и стилистически своеобразной», что «фольклорно-национальное своеобразие» является в ней высшей, самодостаточной эстетической ценностью и целью, ключевым параметром художественной оценки (прежде всего, мы видим это в отношении к «романтической» русской музыке, стилистика которой зачастую лишена «национального своеобразия», которая в принципе озабочена чем-то более сущностным, нежели дилеммы стилистики). Ведь кумиру «эстетических умов» поколения Стасову, на полном серьезе казалось справедливым «опускать палец» в оценке «пушкинских» опер Чайковского просто потому, что в них не было места для того «фольклорно-национального своеобразия» музыки и ее стилистики, с которым он отождествлял суть, принцип, художественную и правду и достоверность русской музыки. Ведь приходило же ему на ум отвергать симфонии Чайковского только потому, что пронизанные поэтикой самовыражения и экзистенциально-философскими откровениями, они «не вносили достаточной лепты» в борьбу за национальное своеобразие русской музыки, в развитие соответствующей этому «фольклорной» стилистики, вообще – не были созданы с глубоким использованием «фольклорных» форм, «обеспечивающим художественную правду и ценностью музыки».
Ведь факт в том, что на полном серьезе казалось правомочным измерять художественную ценность подобной музыки и музыки вообще, на основе такого рода критериев, хотя сейчас симфонии Чайковского ощущаются нами жемчужинами и мировой, и русской классики, эталоном экзистенциально-философского самовыражения и обсуждения языком и средствами музыки вечных, общечеловеческих по сути дилемм, и мысль о том, что музыка симфоний когда-то была сочтена «дурной», что существовали «эстетические химеры», «шоры» и тенденциозные стереотипы эстетического восприятия, которые делали возможными эти оценки и суждения, представляется нам и абсурдной, и кощунственной. Ведь дело же не в том, что как и европейские музыкальные школы, в какой-то период русская музыка становится охваченной тенденциями и борениями «национализма» и связанными с этим художественными дилеммами, стремлением к глубокой «национальной сопричастности» музыкального творчества на уровне художественных целей, сюжетно-тематических горизонтов и т.д. Дело в том, что все «националистические» тенденции и борения в конечном итоге были сведены к дилеммам стилистики и «баталиям» вокруг таковых, к парадигме «национально-стилистического своеобразия», «фольклорности» и стилистической ограниченности музыки, к сверхзадаче творчества подобной музыки. Дело в том, что «национальная сопричастность» музыки в той ее модели, которая сформировалась в эстетике «стасовского круга», была отождествлена с ограниченностью и «своеобразием», тенденциозностью стилистики, что как глубинная особенность и художественно-эстетическая концепция музыки, стало противоречием как сущностным целям музыкального творчества – экзистенциально-философское самовыражение, художественно-философское осмысление мира, философско-поэтический символизм музыки, так и подразумеваемой этими целями общекультурной вовлеченности и сопричастности такового, его сюжетно-тематической и стилистической широте. Вследствие этого, в пространстве русской музыкальной культуры не оказывалось места для поистине «пророческой» ее символизмом и экзистенциально-философскими откровениями музыки позднего симфонизма Чайковского, «романтической» и утонченно-поэтичной, дышащей как «романтическим самовыражением», так и «обобщенно-романтической» стилистикой, музыки его балетов, для «романтической» и философски символичной, пронизанной патетикой борьбы и глубиной философского осмысления мира и судьбы человека, музыки некоторых симфоний С.И.Танеева.
Все «романтическое», и по сути – «философичное», от дилемм стилистики и «национального своеобразия» обращенное к глубине самовыражения и художественно-философскому осмыслению мира, вместо насаждаемой «национальной замкнутости» стремящееся к общекультурной сопричастности и сюжетно-тематической широте, и в плане стилистики – «обобщенное» и «национально отстраненное», тяготеющее к «разнообразию», программно отрицается и чуть ли не ритуально «изгоняется» из пространства русской музыки через такие нехитрые приемы, как «осуждение» и «остракизм», позиционирование в качестве чего-то «чуждого» и т.д. Фактически – то музыкальное искусство, которое от ограниченности и тенденциозности стилистики обращает к ее разнообразности, от «национальной замкнутости» музыки – к общекультурной сопричастности и сюжетно-тематической широте таковой, к горизонтам философизма и самовыражения, к сотрудничеству с европейской и мировой музыкой по общим и сущностным художественным дилеммам, оказывается «мешающим» и программно отвергается. Фактически – «романтические» тенденции философизма и самовыражения, универсализма и общекультурной сопричастности, сюжетно-тематической и стилистической широты, в эру «золотого века» приходят в русскую музыку только в творчестве Рубинштейна и композиторов его «дома», в борьбе и вопреки «программно» насаждемым идеалам, будучи отрицаемыми, по-настоящему же укореняются только в поколении Рахманинова и Глазунова, только после исторического крушения насаждавшихся «стасовским кругом» парадигм «национально-стилистического своеобразия», «национальной замкнутости» и всеобъемлющей «национальности» музыки.
Фактически – только в третьем поколении композиторов, русская музыка приходит к глубинному диалогу и сотрудничеству с европейской и общемировой музыкой по наиболее сущностным дилеммам (и художественно-эстетическим, и нравственно-философским и экзистенциальным), на основе восприятия и постижения общего наследия, в глубоком же взаимовлиянии. Возможно, это и происходит благодаря крушению тщательно возводившихся в течение полувека «эстетических» и «идеологическо-мировоззренческих» барьеров, программно насаждавшегося противопоставления музыки русской и европейско-романтической, глубокому укоренению тех тенденций диалога, которые олицетворял собой и нес в русскую музыку Антон Рубинштейн, и которые программно же отвергались и оценивались как «вызов» и «угроза». В музыке Рубинштейна вызывает «раздражение» и отрицание все – и ее приверженность сущностным для романтизма идеалам, тенденциям и горизонтам («обобщенность» и «разность» стилистики, сюжетно-тематическая широта и общекультурная сопричастность, приоритетность целей самовыражения и художественно-философского осмысления мира, философско-поэтического символизма над «стилистичностью», стилистической концептуальностью и «своеобразностью «музыки), и художественно целостное и правдивое творчество в «русской» стилистике, обращающее к таковой не как к «идолу» и «эстетически самодостаточной» ценности и цели, а как к средству выражения, обнажающее иной уровень целей и возможностей музыкального творчества. В творчестве Рубинштейна раздражает то, что он пишет очень много «не русской», «обобщенно-романтичной», а не «фольклорно-национальной» в ее стилистике музыки, словно бы внятно показывая этим, что музыка, созданная русским композитором, может «прекрасной» и выразительной, вовлекающей в диалог, нравственно и эстетически воздействующей без воспетого «национального своеобразия». Этой ключевой особенностью творчества, самим фактом приверженности «романтической» стилистике и творчества в ее ключе музыки, обладающей глубинными и исключительными художественными достоинствами, композитор посягает на «сакральнейший» и «трепетный» эстетический идеал эпохи, на идол «русскости» и «национально-стилистического своеобразия», и конечно же – подобное порождает неприятие и отрицание. Ведь стилистическую «инаковость» и «разность» музыки композитор позволяет себе как раз тогда, когда ограниченность и «своеобразие» стилистики, творчество музыки в русле «концептуальной», «фольклорно-национальной стилистики», его ограниченность в «языке форм», становятся «сакральным» и «всеобъемлющим» эстетическим идеалом. Ведь в творчество в «разных» стилистических языках композитор позволяет себе тогда, когда музыка мыслится создаваемой только языком «фольклорных форм», в русле «фольклорно-национального своеобразия», когда с подобным принципом отождествляются и ее национальная и художественная идентичность, и сама ее художественная «состоятельность», ее право на признание и существование. В творчестве Рубинштейна вызывает отрицание даже «русская», написанная им музыка, потому что она такова «по-другому», нежели в пестуемых «стасовским кругом» идеалах и эталонах «русскости» и «национального своеобразия», отводит иное место и значение в ее структурах «национальному своеобразию» и использованию «фольклорно-национальных» элементов, свидетельствует иной взгляд на модель «национально-стилистического своеобразия». Даже «русская» музыка, написанная композитором, вопреки ее национально-стилистической достоверности и множественным художественным достоинствам, вызывает программное отрицание и «осуждение», порождает обвинения в «лубочности», «не-настоящности», «поверхностности» и т.д., потому что подобная судьба предназначается для его творчества в целом, уж слишком опасные и «иные», антагонистичные насаждаемым идеалы и тенденции, оно несет с собой. Даже «русская» музыка Рубинштейна отрицается, ведь она настолько художественно целостна и правдива, что в сочетании с не менее художественно убедительной, но «стилистически иной» музыкой в его творчестве, словно бы указывает на гораздо более широкие горизонты целей и возможностей музыкального творчества. Более века была предана забвению и стерта из репертуара, скрыта от публики музыка ранних рубинштейновских концертов – прекрасная ее проникновенностью, пронизанностью глубоким и мощным самовыражением, символизмом и философско-смысловой глубиной ее тем, искушенностью композиционной задумки и структуры, и так это только во имя того, чтобы у публики, чье эстетическое сознание должно быть «строго выстроенным» в плане вкусов и приоритетов, не создалось «опасного заблуждения», что русская музыка времен глинкинской «Камаринской», может звучат великолепно и вдохновенно, с небывалой силой воздействуя и вовлекая в диалог, но безо всякого «русского своеобразия», с упоительной и поэтичной «романитчностью». Еще яснее – что русская музыка, оказывается, может быть еще и «такой», различающейся с насаждаемыми идеалами и эталонами восприятия, и имеет право быть. Та же судьба постигла и вселенную камерных произведений композитора – многочисленных ансамблей и сольных пьес для ф-но. Во-первых – по той же самой причине, что русская музыка звучит в ней во многом «как-то не так», как желательно и привычно слышать, что прекрасная и проникновенно выразительная, могущая служить эталоном символизма и экзистенциально-философского самовыражения музыка, может при этом звучать совершенно не «по-русски», вне «маслянистой фольклорности» (хотя в этом жанре Рубинштейном создано немало произведений, их «русскостью» поистине великолепных). Во-вторых – потому что речь идет о вселенной по большей части выдающихся камерных произведений, соотносимой с подобными в творчестве Мендельсона и Бетховена, Шумана и Шопена, созданной в период, когда «титульно русские» композиторы пишут очень мало камерной музыки, а то же, что пишется, близко не обладает такими художественными достоинствами. «Признать» ее – значит открыть дорогу признанию и месту в русской музыкальной культуре судьбы и творчества Рубинштейна как таковых, да еще и далеко не в «благоприятном» свете, в котором выступают на фоне творческого наследия композитора фигуры «корифеев», а потому – «проще» и «правильнее» похоронить ее, обречь ее на забвение, навесив тот ярлык «романтическая пошлость» «дурная музыка», который менее всего к ней относим. Как результат, камерные произведения композитора в течении 20 и в начале 21 века исполняются многими десятками выдающихся мировых исполнителей, целенаправленно записываются в обладающих несомненным и давним авторитетом компаниях звукозаписи, но практически не исполняются русским музыкантами.
Вследствие всего означенного, в русской музыкальной культуре не оказывалось места для музыки Рубинштейна, во многих случаях могущей выступать эталоном философского символизма, проникновенного и поэтичного самовыражения и той «красоты», которая связана с выразительностью и символизмом музыки, причем – как для «романтической», так и для собственно «русской», написанной в «фольклорно-национальной» стилистике, превращающей такую стилистику в совершенный и поэтичный язык самовыражения и философствования, словно указывающей ее художественной правдой и целостностью, что цели и возможности музыкального творчества несоизмеримо шире, затрагивают и совершенно иное измерение, нежели дилеммы стилистики и «национального своеобразия». Причем творчество Рубинштейна познает описанное отношение в особенности и «программно», ибо является олицетворением подобных идеалов и горизонтов, источником такого направления в русской музыке и связанных с ним тенденций, и в течение более чем века после смерти, публику «программно», целенаправленно ограждают от тех произведений композитора, которые могут служить и эталоном «красоты» и «выразительности», и вдохновенным образцом «русской» музыки, поэтичной и символичной, проникновенной и выразительной в ее «национальном своеобразии».
Фигура и творчество Рубинштейна являлись и олицетворением, и истоком тех «романтических» идеалов и тенденций в русской музыке второй половины 19 века, которые с официально господствующих позиций и установок программно отрицались, были таковым антагонистичны, мыслились чем-то противоположным от целей и горизонтов, «предписанных» русской музыке, а потому – «по заслугам и честь», и творческое наследие композитора и при жизни, и в течение более века после смерти, отвергалось и обрекалось на забвение с по истине «идеологической» основательностью. Русская музыкальная эстетика обсуждаемого периода видит «национально-стилистическое своеобразие» музыки высшей художественной целью и «сверхзадачей» музыкального творчества, «фольклорно-национальные» формы используются не в меру их выразительных возможностей, способности послужить символичности и образно-смысловой выразительности музыки, а во имя создания как такового программного «национального своеобразия» музыки, которое ощущается в ней чем-то «эстетически самодостаточным». Конечно же – в жертву этому «идолу» приносятся те горизонты художественных целей и задач, движение к которым подразумевает творчество в совершенно иной, «обобщенно-поэтичной» или «культурно иной» стилистике, озабоченность не концептуальным «стилистическим своеобразием» музыки, а ее смысловой выразительностью и символичностью, служением этому стилистики. Конечно же, «романтический» подход в творчестве музыки подразумевал пренебрежение ограниченной «фольклорной» стилистикой, постулируемой как единственный и «всеобъемлющий» художественный язык, во имя целей самовыражения и художественно-философского осмысления мира в музыкальном творчестве, если реализация этих целей требовала творчества в совершенно иной стилистической парадигме. А потому – в поздних симфониях Чайковского, могущих служить эталоном музыки как языка экзистенциально-философских откровений, мы видим практически программный отказ композитора от использования «фольклорно-национальной» стилистики, столь же близкого ему, сколь ультимативно требуемого в этот период, и вариации на тему русской народной песни в финале Четвертой симфонии – тому подтверждение, а вовсе не «опровержение». Чем более перед Чайковским встает необходимость выражения философского осознания мира, человека, существования и судьбы человека, глубочайших и сокровенных слоев экзистенциального и философского опыта, связанных с трагическим ощущением смерти, тем более он отходит от «фольклорно-национального» языка и обращается к «эталонному», «обобщенно-поэтичному» и символичному языку романтизма. Ведь цели самовыражения, его ясности, глубины и правды, философско-поэтического символизма музыки, приоритетнее и ценнее ее «национального своеобразия», как такового творчества «стилистически своеобразной» музыки. Так это для Чайковского, так это для его учителя и идейно-эстетического вдохновителя Рубинштейна, так это в целом для «романтической» музыки и эстетики, идеалы и горизонты которой Рубинштейн привносит в русскую национальную музыку, в борьбе и противостоянии, через «программное» и нередко обретающее трагический накал неприятие и отрицание, укореняет на ее «почве».
Если в русской музыке, в тот или иной период, в творчестве тех или иных композиторов, смысловая выразительность и глубина, философско-поэтическая символичность музыки, как таковая высшая цель самовыражения и художественно-философского осмысления мира, оказываются приоритетнее «национально-стилистического своеобразия» музыки, то только потому, что в ней состоялись фигура и творчество Антона Рубинштейна, что она формировалась в том числе и под ключевым влиянием эстетических идеалов, творчества и просветительской деятельности Рубинштейна. Ведь что же делать, если в музыке необходимо выразить те мысли, идеи и переживания, которые ни в коем случае не возможно выразить языком «фольлорно-национального своеобразия», в концептуальном использовании «фольклорных форм», выражение которых требует «иного» стилистического языка? Ведь что же делать, если по самой экзистенциальной и «общечеловечной» природе музыкального творчества, в нем неотвратимо встает необходимость выразить то, что невыразимо в рамках ограниченной «фольклорно-национальной» стилистики, предписываемой ему в качестве «единственного» инструмента и языка? Слава богу, что в поздних симфониях Чайковского либо вообще нет, либо очень мало «фольклорных» элементов, что их присутствие и использование не исказило и не разрушило совершенную поэтическую чистоту и выразительность, символичность и смысловую объемность этой музыки, что пронизанность музыки экзистенциально-философскими откровениями, ее поэтическая выразительность и символичность, были для композитора важнее и приоритетнее ее «национально-стилистического своеобразия», как таковой «национальной сопричастности и идентичности», достигаемой через «своеобразную» и ограниченную стилистику. Ведь вся проблема в том, что «фольклорно-национальное своеобразие» привносится в музыку в этот период не только как то, что способно послужить ее символичности и образно-смысловой выразительности, а как нечто «эстетически самодостаточное, к чему сведены художественная ценность и основное достоинство музыки.
А что же делать, если художественная правда в творчестве таких произведений, как оперы «Демон» Рубинштейна и «Пиковая Дама» и «Евгений Онегин» Чайковского, как Пятая симфония Чайковского или Пятый же концерт Рубинштейна, требует символичного и «обобщенно-поэтичного» языка романтизма в той же мере, в которой в творчестве «Богатырской» симфонии или «Псковитянки» – глубокого «фольклорного своеобразия»? Ведь развернуть философствование о витиеватых, подчас драматических путях прогресса, о загадке и трагизме, противоречиях и перипетиях судьбы и пути человека, выразить экзистенциальные, «романтические» переживания и борения литературных героев, единые у Пушкина и Байрона, Лермонтова и Гете, объективно невозможно тем музыкально-стилистическим языком, которым Мусоргский разрабатывает сюжет трагедии «Бориса Годунов», а Бородин – «Слова о Полку Игореве»? Ответ известен, его дают эстетические дискуссии и баталии обсуждаемого периода, он состоит в осуждении и отрицании той музыки «романтических» русских композиторов, которая отходит от «программного», «насыщенного», «всеобъемлющего» использования языка «фольклорных форм». В операх Римского-Корсакова и Мусоргского любят превозносить глубокое соответствие музыки правде драматического действия, и это во многом, хотя не всегда так, однако – как же быть с тем, что художественная правда �
Читать дальше